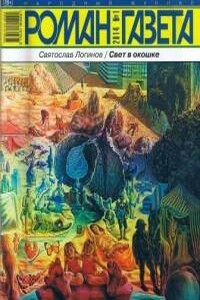Ударная сила | страница 88
Милосердова как-то разом вся угасла: поблекла, потускнела.
— Спасибо... — Голос ее осекся, зазвучал ломко. — Сказали вы мне, глупой, все. Но беретесь судить... а понимаете женскую душу? Женскую долю? — Она сказала это с безмерной тоской и укоризной; на глаза ее навернулись крупные слезы; смахнув их, она выпрямилась. — Ладно! Пусть все откровенно. Начистоту. Осудите — не боюсь: семь бед — один ответ. Сажа не убьет, только замарает... — Рассеянно усмехнулась, помолчала. — Семь лет с нелюбимым... Не жизнь, а сожительство. Еще хуже. Врагу не пожелаю. Как кара или вечное проклятье... Кляну день, когда случилось. Смалодушничала. Обещал любить, на руках носить... Польстилась. Но чужая любовь... Не знаешь, какая она, свою надо иметь. А в том не виновата — была своя, да авиация отняла. Разбился. В сорок седьмом. Войну прошел. Думала, не переживу. А сейчас — весна ли, лето ли — одно чувство: осень, лужи, и... холодно. — Она передернулась и испуганно-болезненно поморщилась. — А Гладышев... Мальчик! Приткнуться некуда... Не палкой же его! А с любовью?.. Придет время, найдет свою. — Милосердова замолкла, пугливо обернулась на голос за дверью.
Там слышался шум: дежурный кого-то убеждал, отговаривал, повторял: «Заняты», но другой голос возвысился: «Мне как раз и надо!»
Вошел Гладышев — левая рука на марлевой тесемке, пальцы вздуто-синеватые, кровь оттекла от лица, оно отбеленное, губы подрагивали. Милосердова настороженно оглянулась, но Гладышев будто не видел ее, бодливым бычком уставился на Фурашова.
— Товарищ подполковник, разрешите доложить? Маргарита Алексеевна ни в чем не виновата. Виноват я. Во всем. С меня и взыскивайте, наказывайте...
Моренов оживился, словно почувствовал: вот теперь другое дело, теперь веселей, посмотрим, что-то будет.
— Зачем? Зачем вы пришли? — с болью спросила Милосердова и, встав со стула, шагнула к Гладышеву. — Никто меня тут не обвиняет... Ни в чем. Все будет хорошо. А вам не надо сейчас, не надо, Валерий...
Голос ее певучий красиво вибрировал, убеждающий и обвораживающий, как дурман. И вся она преобразилась, каждой черточкой тонкого, нервного лица, щеточками ресниц: не высохнув от слез, они мокро блестели...
— Идите, Гладышев. Надо будет... — Моренов покосился на Фурашова, сверяя, так ли поступает, — пригласим.
Фурашов кивнул утвердительно.
Гладышев еще секунду колебался, затравленно переводя взгляд с Моренова на Фурашова, потом на Милосердову, наконец толкнул дверь, вышел.