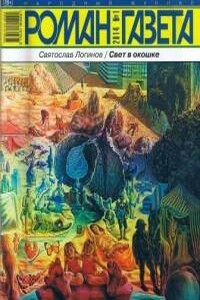Старослободские повести | страница 47
Бывало так. Дети уснут, а она прижмурит коптилку, чтоб еле-еле светила, и лежит без сна. Уйдет в свои думы — и не знает, час ли пролежала или полночи уже прошло. И вдруг — вроде как постучит кто в окно и окликнет ее Мишкиным голосом: «Варюш, а Варюш...» Вскинется она, сядет на кровати, прислушается. Нет, просто послышалось ей. Встанет, подойдет к Колюшке: он редко на печке спал, все больше в горнице, на маленькой кроватке, — поправит на нем одеяло, сама перекрестится, на всякий случай, и опять ляжет. Закроет глаза, а за окном опять: «Варюш. А Варюш...» И точно Мишкиным голосом да таким тихим, жалостливым, и с хрипотцой: ну как замерзает человек. Похолодеет у нее в груди, а все ж встанет — и к окнам. В горнице все три окна обойдет, в каждое всмотрится — нет никого. В кухню войдет, так в оба окна заглянет — никого. Если осенью, там за стеклами только черная темень смотрит на Варвару ее же испуганным отражением, а зимой и вовсе ничего не увидит в промерзших кружках. Поначалу думалось: а вдруг это и вправду Мишка вернулся и тихо зовет ее, чтоб никто его не услышал, — а она не откроет... Один раз, осенью это было, встала и во двор вышла. Во дворе темень, ветер. А она сообразила — позвала: «Миш?». Точно в черный омут канули ее слова, и так страшно ей стало, что она еле живая вскочила в хату, заперла дверь на крючок и забралась к дочерям на печку. В другой раз зимой было. Позвал он ее — и скрипит снегом под окном. Тогда, слава богу, не сразу вышла. Только чуточку приоткрыла дверь — а от самого порога кто-то как прыгнет в сторону: то ли собака большая, то ли волк.
— Это душа Мишкина тебя зовет, — рассуждала бабка Настя. — Может, погиб, а может, и живой, мается где-нибудь, о семье тоскует — вот и просится к тебе. Думаешь, если он жив, так не грептится ему о доме, не болит у него душа за тебя с детьми?..
Боязливой она не была, девкой куда хочешь могла пойти одна среди ночи. А тут, что греха таить, ночью боялась на улицу выйти. Особенно поздней осенью, в самые темные ночи, когда и огня ни в одной хате не увидишь, а тут еще в логу лиса как заплачет — что твой грудной ребенок, или начнет кричать сыч... Потом-то это прошло, но темных осенних ночей все равно не любила она.
Кончилась война, поприходили оставшиеся в живых мужики. И поспокойнее, понадежнее жизнь стала. Андрей, поставленный председателем по поговорке: «На безлюдье и Фома — дворянин», тоже поубавил теперь гонор, разве что пил начужбинку еще больше, тем более, что он как-никак еще оставался председателем и в его руках было дать волов, лесу на хату привезти или колхозной соломы отпустить. Да и с работой стало — не то что раньше: и на коровах своих больше не пахали, и свеклу на элеватор за пятнадцать верст зимой на салазках на себе не возили.