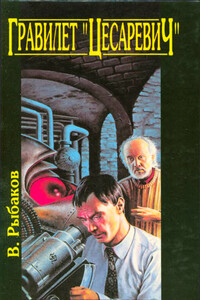Звезда Полынь | страница 29
А кроме того, потребность в материальном достатке — тоже дело житейское. Никакого криминала.
Грех сказать, но по сыну он так не скучал. В последнее время уже, пожалуй, совсем не скучал. Почти. Может, дело в том, что слишком уж маленьким тот был, когда все кончилось. Не успел стать ни единомышленником, ни собеседником, ни даже кандидатом в собеседники. Конечно, Журанков учил его ходить на лыжах — дошло даже до совместных семенящих пробежек по таинственным глубинам Александровского парка, и в шахматы учил играть, и ночей не спал, сам не свой от тревоги, то и дело меряя Вовке температуру проверенным поколениями способом — прижимаясь щекою или губами ко лбу спящего дитяти… И, уж совсем на заре эпохи, с прибаутками ворочал утюгом — гладил пеленки… Да что говорить, запах младенца навсегда стал для него символом домашнего уюта. Долго еще парочки, гуляющие без коляски, всего лишь вдвоем, казались ему впустую транжирящими драгоценное время бездельниками, некомплектными и неполноценными.
Но все же — уже не скучал. Может, если бы Катя не положила резкого запрета на их общение — было б иначе. Но…
Но.
А странно: снился он ему даже чаще, чем Катя. И во сне, когда Журанков делал ему козу или брал на колени, у него слезы наворачивались от счастья: наконец-то все уладилось… И не хотелось просыпаться.
Но снился он всегда маленький. Такой, как был тогда. И, открывая глаза, Журанков не вдруг соображал, что сейчас этого теплого добродушного кулька нет вообще нигде на свете, вообще нигде. Вместо него — ровесник приматов с третьего этажа; рослый, жесткий, жующий резинку. Чужой.
Сегодня Журанков думал на эти темы куда больше обычного.
Потому что именно сегодня в начале восьмого разбудил его телефонный звонок.
Журанков и всегда-то засиживался допоздна. А сейчас, когда близилась экзаменационная страда, и богатые недоросли особенно нуждались в натаскивании, Журанков целыми днями мотался от одного ленивого страждущего к другому, чуть менее ленивому — для него это тоже была страда; он зарабатывал себе на весь остальной год и потом растягивал отслюнявленные импозантными родителями убогие суммы до следующей весны. Поэтому для собственной работы оставались только ночи. Не работать он не мог, хотя спроси его, зачем он обсчитывает какие-то очередные идеи и прожекты, он не сумел бы ответить.
Словом, вчера он лег, ровно молодой, в четвертом часу.
Поэтому, когда телефон с междугородней истеричностью пошел ни свет ни заря трезвонить, Журанков в бестолковой панике захлопал крутом себя ладонью, как цыпленок с отрезанной головой хлопает крылышками; чуть не снес лампу со столика у изголовья, снес-таки пустой стакан из-под йогурта (поздний ужин, который Журанков заранее готовил себе на случай, если уже в постели поймет, что оголодал), и лишь потом нахлопал трубку. Поднося ее к уху, он все еще не мог разлепить глаз.