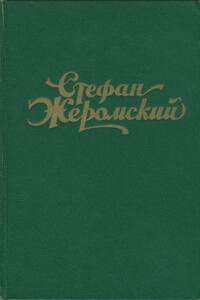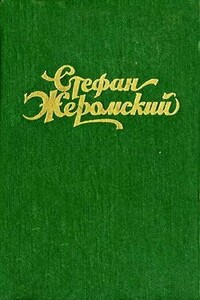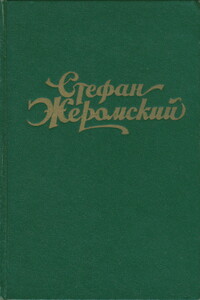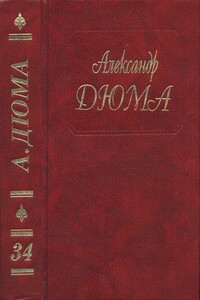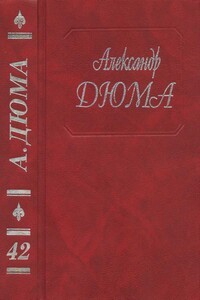Сизифов труд | страница 24
– Горы, горы… – шептал он, глядя из окна кареты на далеко открывающийся пейзаж. Ему вспомнились юношеские скитания по Баварии, Тиролю, Италии и Швейцарии.
Окончив филологический факультет в Москве, Ячменев, убежденный народник, решил «идти в народ», осесть в сельской школе. Стремясь, однако, изучить и освоить метод работы, который давал бы наиболее богатые результаты, он совершил путешествие в Швецию, Англию, Германию и Швейцарию и во всех этих странах прилежно изучал постановку дела в народных школах. Лучше всего он изучил Швейцарию, с палкой в руках и мешком за спиной странствуя от Боденского озера до Лугано и Женевы. Почти в каждой школе он знакомился с учителем, слушал уроки, принимал участие в экскурсиях и особенно изучал так называемую «Primärschule»,[5] где обучение начинается с веселой болтовни и игр на свежем воздухе.
Теперь, едучи, он вспомнил одну маленькую девочку, в огромных, подкованных гвоздями башмаках, с огромным зонтиком в руках, идущую в ветер и ненастье в школу из своей избушки, торчащей между туч, где только одна коза, кормилица семьи, умеет найти себе пропитание и где человек в сто крат бедней, чем коза.
Чего бы он не дал, чтобы еще хоть раз в жизни пойти с шестилетними гражданами свободного Швицерланда[6] в лес искать вместе с ними скрывающихся между листьями гномов в островерхих капюшонах и с огромными бородами… Ах, чего бы он не дал, чтобы вернуться к молодости, вести долгие беседы с честными учителями сельских швейцарских школ, далеко за полночь советоваться с ними, как уничтожить тьму в «страшной России», и иметь честное, благородное сердце в груди.
И вдруг инспектор Ячменев заплакал… Теплый ветерок усилился, когда карета достигла вершины горы.
«Ах, как я уже стар, как страшно стар… – шепнул Ячменев. – Все прошло, безвозвратно миновало, развеялось, как мгла над озером. Кажется, вчера только с палкой в руках я лазил по скалам, чтобы научиться как можно лучше, как можно скорей, как можно гуманней разжечь свет среди темных крестьянских масс, а нынче… Следует распространять не просвещение в космополитическом значении этого слова, а „просвещение русское“. Куда уж тут соваться с Песталоцци. Желая посредством русификации польских мужиков существенно помочь быстрому развитию Севера, надо бы сделать это так основательно, чтобы здешний крестьянин полюбил Россию, ее православную веру, язык, обычаи, чтобы готов был погибать за нее на войне и работать на нее в мирное время. Надо бы вырвать с корнями здешний, воистину звериный, крестьянский консерватизм. Надо бы разрушить эту вековую самобытную культуру, как старый дом, сжечь на костре верования, предрассудки, обычаи и построить свои, новые, с такой быстротой, с какой строят города в Северной Америке. И лишь на этой почве можно бы приступить к осуществлению мечтаний щвейцарских педагогов. То, что мы делаем, те шаги, которые мы предпринимаем…