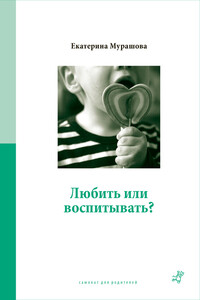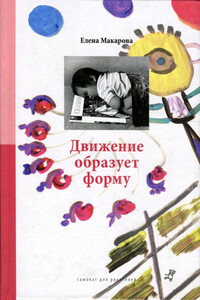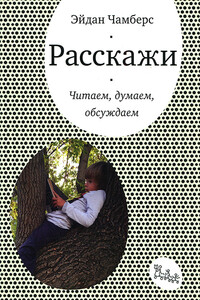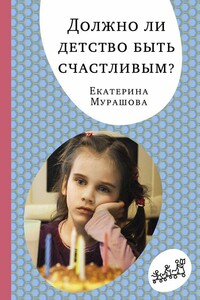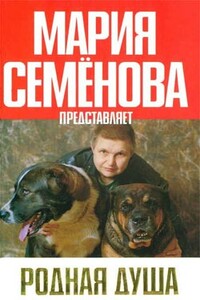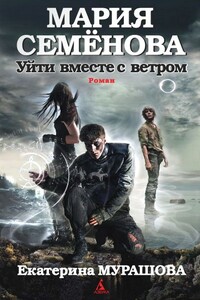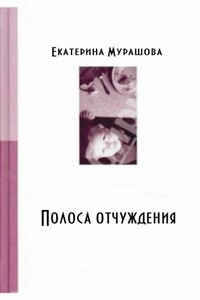Дети взрослым не игрушки | страница 91
Я опять подумала, что большинство родителей шестнадцатилетних (Михаилу уже исполнилось шестнадцать) мальчиков от зависти бы взвыли. И вместе с этой мыслью показалось: что-то нащупала!
– Зовите.
– Главное стремление человека – быть счастливым. Иногда (часто) – делать счастливыми других. Твое решение – стать как робот – не сделало счастливым никого.
– Вы уверены?
– Безусловно. Твоя мать пришла ко мне со своей тревогой: помогите, с сыном что-то не так. Ты сам тоже счастливым, уж извини, не выглядишь.
– То есть вы хотите сказать, что, если бы я хамил родителям и учителям в ответ на любое их указание, зависал в стрелялках и «Вконтакте», орал, бил посуду, получал двойки, срывал уроки и прыгал по крышам, как обычный, нероботизированный подросток, количество счастья вокруг и внутри меня резко увеличилось бы?
– Э-э-э… ну, подростковый максимализм в тебе, по крайней мере, присутствует в нормальных, положенных по возрасту дозах… и на том, как говорится, спасибо…
– Ответьте! – потребовал Михаил. Глаза гневно заблестели.
Я мысленно похвалила себя: выманила из норки. И что теперь?
– Когда это началось? – спросила я. – Ты помнишь?
На положительный ответ не надеялась, просто тянула время, собираясь с мыслями. Однако, как ни странно, он помнил.
У родителей Михаила всегда, сколько он себя помнил, был стандартный речевой оборот: что это ты такое делаешь? Такие мальчики нам не нужны! Нам нужны такие мальчики, которые… (далее внятно излагалось, что конкретно делают или не делают потребные им мальчики).
Пример: чего это ты разнюнился? Нам такие мальчики не нужны! Нам нужны мальчики, которые уже взрослые, не изводят маму и идут своими ножками.
Со временем этот оборот по форме исчез, но по сути никуда не делся. Смышленому Михаилу всегда было вполне ясно, какие именно мальчики нужны родителям, учителям, преподавателям в кружках и т. д.: послушные, вежливые, услужливые, готовые помочь, упорно решающие поставленные перед ними задачи, не сдающиеся от неудач, не проявляющие ярко своих эмоций (прыгать и вопить от радости и орать и ругаться от горя – все это равно не одобрялось), говорящие и делающие ровно то, что от них ожидают (ожидания всегда озвучиваются, если правильно спросить). Где-то лет в двенадцать Михаил, который много читал, спросил себя: что же это за мальчики-то такие, которые удовлетворяли бы всем этим требованиям? И довольно быстро нашел ответ: это мальчики-роботы.
– Сколько я живу, у меня никто никогда не запрашивал ничего моего, человеческого, – сказал мне Михаил. – Никому не было интересно и нужно, чтобы были противоречия, чтобы я говорил, делал что-то свое, наперекор им. Всем нужно, нравится, чтобы с ними соглашались. Придумывали – в тех рамках, которые они сами задали. Учитель задает вопрос; если догадаешься, какой(ие) у него ответ(ы) в голове уже готов(ы), – все в порядке. Сейчас вот с девушками все то же самое. Если говоришь то, чего она от тебя ждет (а догадаться, поверьте, нетрудно), – ты хороший. Меня, самого меня, человека, противоречивого и часто просто жалкого, унылого и противного, никто никогда нигде не ждал, понимаете?