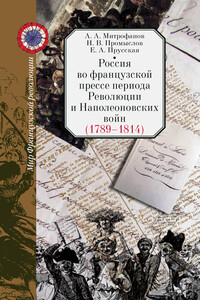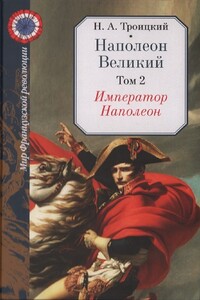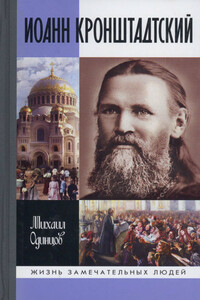Историки Французской революции | страница 139
Наконец, третий, заключительный, раздел книги посвящен Максимилиану Робеспьеру – подъему и зениту революции. А.З. Манфред на протяжении нескольких десятилетий изучает Робеспьера, и этот раздел книги подводит итоги многолетним изысканиям. В этой части рукописи тщательно использовано недавно законченное издание 10 томов Собрания сочинений Робеспьера; в наш научный оборот благодаря этому впервые вводится ряд не известных ранее высказываний Робеспьера. Автор дает решительный отпор новейшей буржуазной историографии (А. Коббен, Ф. Фюре, Д. Рише, Д. Герен и др.) с ее стремлением к «деякобинизации», всяческому принижению и отрицанию исторической роли революционной диктатуры и Робеспьера. Автор опирается при этом на глубокие суждения Ленина, высказанные им до Октябрьской революции и после нее, в частности в переходный период 1921 г.
А.З. Манфред высказывает ряд интересных и оригинальных мыслей по поводу позиции Робеспьера в последние недели накануне переворота 9 термидора. Он правильно отмечает, что Робеспьер не является ответственным за усиление террора после закона 22 прериаля и что в последние недели Робеспьер отошел от активного участия в деятельности Комитета общественного спасения.
Автор видит в этом трагедию руководителя буржуазной революции. Робеспьеру и его единомышленникам казалось, что она на пороге создания нового общества – царства «добродетели». Но жестокая действительность показывала им, что, несмотря на все усилия, «силы зла» оказывались все более могущественными, и Робеспьер начинал понимать свое бессилие. Соображения А.З. Манфреда представляются нам вполне правдоподобными, но автору следует отметить, что этот вопрос не получил еще окончательного решения в исторической литературе.
В изложении взглядов Робеспьера нам представляется все же неточным положение, что «никто так отчетливо не разбирался в классовом членении общества», как Робеспьер (с. 153). На других страницах (160, 163, 189) сам же автор совершенно правильно напоминает слова Ленина о том, что якобинцы не понимали, на какой класс опираться, и в этом была их величайшая слабость. Мы считали бы также ненужным злоупотреблять термином «партия» (см. с. 143, 149, 162, 186–187, 197, 199–201, 204). Конечно, между якобинским клубом и партией были известные черты сходства, но различие слишком велико и его не следует преуменьшать.
Отдельные замечания:
с. 6 – едва ли Бюзо можно считать теоретиком жирондизма. Скорее – Кондорсе. Трудно обвинять жирондистов, что они инспирировали покушение Шарлоты Корде – это не доказано;