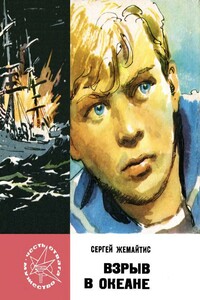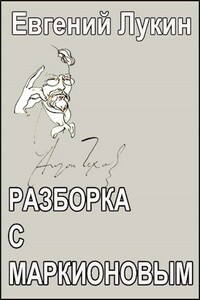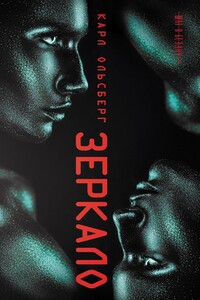Абстрактный человек | страница 97
Когда он произнес эти слова, он вспомнил множество памятников, белых и неживых, тоскливых и строгих. Причем тут памятники? Причем?
Памятники.
Лики…
Лица.
Да. Лица!
Ах, лица!
Лицо.
Его лицо.
Ее лицо.
Лицо той фигуры!
Шапка.
Шинель.
Шарф. Черный. Глаза. Как уголья. Самосжигающиеся глаза.
Такие глаза бывают у раскольников.
Петров.
Он говорил.
Что?
Убьют?!
Убили. Уже убили. Меня ведь уже больше нет.
Конечно, нет.
Есть кто-то другой.
И этот другой — Я.
Вот это уже ужас.
— Вы меня убили, — сказал он вслух.
— Что, что с вами, Владимир Глебович, — шептал в трубке голос Иванова, — успокойтесь, прошу вас, мы тотчас за вами прибудем, только успокойтесь, вы, по всей видимости, нездоровы, немного нездоровы, это от перегрузки, он необычайной перегрузки.
— Какая перегрузка, о чем ты говоришь, ты говоришь, ты произносишь слова, а сам не понимаешь, что ты говоришь, какая перегрузка, когда мир другой становится, прямо на моих глазах, он плывет, он колышется, а ты мне о перегрузке. Ты понимаешь, что во мне что-то растет, ты понимаешь, что это не шутка, что нельзя так шутить, что это есть на самом деле, что в глубине меня нечто растет. Ясно?
— Ах, вот оно что, так это же прекрасно, Владимир Глебович, это по-настоящему прекрасно, вы только не пугайтесь, вы где, ах, в автомате. На Кировской, у бульвара, у самого бульвара, в том автомате, что у метро, через минуту, одну минуту будет машина.
В трубке загудело.
Майков медленно вышел из будки. Моросил дождь со снегом. Весна опустилась на город с дождем, как покрывало, сотканное из тончайшего слоя водяной пыли и прекрасных снежинок. Оно покрыло дома, и те полурастворились в сером водяном небе. Город расплылся, разъехался, и на месте этого огромного, разделенного на кварталы, в которых как огромные каменные сосульки подымались дома, города Владимир Глебович увидел уже иной город. Не было сомнения, что это была та же Москва, но также не было сомнения, что она неуловимо изменилась, огромные формы ее чуть разъехались, как если бы смотреть на нее сквозь неровное стекло, дома изогнулись, и свет из их окон не летел уже прямо, как ему положено, а словно извивался в пространстве. Да и само коварное пространство, если так, конечно, можно объяснить происшедшую перемену, покривилось, разъехалось, и на месте своего разрыва, который пронизал и всего Майкова, оставило все тот же чуть заметный страх, маленький, то растущий до ужаса, то стихающий, будто его и не бывало. Майков не мог отвязаться от ощущения, что присутствует при каком-то огромном процессе перемены всего мира кругом. Он как завороженный стоял, вслушиваясь в происходившее в нем.