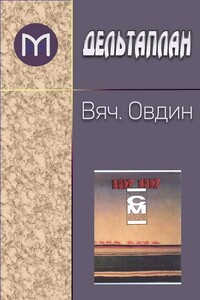Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы | страница 28
Угадайте, сколько мне лет?
Этот эпизод тоже французский. Дело было в Лионе в 2004 году; там проходила конференция, состоявшая из двух частей. Первая была посвящена эпохе Александра I, а вторая – русской эмиграции 1917–1945 годов. И вот во второй части выступал Никита Алексеевич Струве. Во время перерыва мы с одной моей коллегой разговорились с ним по дороге в столовую. И тут выяснилось, что он больше всего гордится не своей ролью в напечатании солженицынского «Архипелага», не своими книгами и статьями. «Вот угадайте, сколько мне лет?» – спросил он. Выглядел он так прекрасно, что мы с коллегой без тени лести сказали: «Ну, лет шестьдесят!» Как он был доволен, как счастлив! Потому что на самом деле ему было семьдесят три.
Какие у вас духи?
И, наконец, последний эпизод – так сказать, жемчужина коллекции. Среди своих «патентов на благородство» я могу с гордостью предъявить такой: «меня обнюхал великий Омри Ронен». Дело было на Эткиндовских чтениях в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Перед началом очередного заседания Омри подошел ко мне, повел носом и очень строго спросил: «Вера, какие у вас духи?» А духи у меня были якобы французские Marina de Bourbon; говорю якобы, потому что продавались они исключительно в подземных переходах (а сейчас, кажется, и там не продаются). Я сказала про Марину, но Омри этим не удовлетворился. «А где вы их покупаете? Я хочу купить такие жене». Стыдно было признаваться про подземный переход, но пришлось.
Вадим Эразмович и Максим Бальзакович
В приведенных эпизодах я по преимуществу выступаю в роли благоговеющей. Напрашивается вопрос: а что же, перед Вадимом Эразмовичем Вацуро и его соавтором Максимом Исааковичем Гиллельсоном я не благоговела? Оба, каждый порознь, позвали меня участвовать в замечательных издательских предприятиях. Вацуро предложил мне готовить с ним вместе сборник «Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры» (он вышел в «Радуге» в 1989 году). Главная роль была, конечно, у Вадима Эразмовича: он составил список элегий, переведенных русскими поэтами, и откомментировал их, а я комментировала соответствующие французские оригиналы и даже получила от Вадима Эразмовича комплимент (не знаю, насколько заслуженный): якобы, прочтя мою вступительную статью, он наконец понял, что такое перифрастический стиль. А Гиллельсон (которого пятилетний Костя, слыша, что мама поминает то его, то Бальзака, переименовал в Максима Бальзаковича) хотел, чтобы я участвовала в комментировании некоторых материалов из пушкинского «Современника», факсимильное издание которого он готовил для издательства «Книга». Но до тех пор, пока папа занимал там пост главного редактора, мое участие было немыслимо: папа такой семейственности позволить не мог. Решили начать работу, а ближе к делу решить, как меня «замаскировать». Но тут – что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло – в 1984 году папе исполнилось шестьдесят, и директор издательства, страшно ревновавший к славе Мильчина как автора книг о редактировании (хотя тогда их было гораздо меньше, чем стало потом), поспешил «выдавить» его на пенсию. И я смогла три года спустя опубликовать примечания к парижским хроникам моего любимого Александра Ивановича Тургенева, статьям князей Петра Борисовича Козловского и Петра Андреевича Вяземского и даже Пушкина, не прячась ни под какой маской. Сейчас бы я все это, конечно, откомментировала в десять раз подробнее. Впрочем, и без этого наши комментарии не влезали ни в какие издательские рамки, и редактор книги Александр Евгеньевич Тархов всячески настаивал на разных сокращениях, а мы роптали и мучились. Плод этих мучений – инскрипт на подаренном мне втором издании книги Вацуро и Гиллельсона «Сквозь умственные плотины», который сочинил Максим Исаакович: «Дорогой Вере Аркадьевне Мильчиной. Вихри враждебные веют над нами, / Тархов-редактор бельмом на глазу! / Ввысь вознесем филологии знамя, / Выстоим смело в грозу. 29.Х.86». А еще Гиллельсон дал мне полезный совет, которому я следую до сих пор. Мы с ним обсуждали, как писать составные имена французов (типа Жан Луи Эжен) – через дефис или отдельно. И он сказал твердо: «Выберите какой-нибудь один вариант и следуйте ему всегда, уже больше не раздумывая. Это сильно облегчает жизнь». Я выбрала вариант с дефисами и с тех пор награждаю ими подведомственных мне французов всегда, нисколько не раздумывая, – и всегда при этом с благодарностью вспоминаю Максима Исааковича.