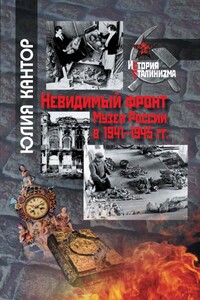Клеймение Красного Дракона. 1937–1939 гг. в БССР | страница 120
Судебные процессы в сельском хозяйстве, как показательные, так и нет, претерпевали трансформацию в связи с изменяющимися политическими установками, пафос и последствия судов первой половины 1937 г. и более поздних – различны. М. Фуко писал о судах средних веков и раннего нового времени: «Государь присутствует в казни не только как власть, мстящая за нарушение закона, но и как власть, способная приостановить и закон, и мщение […] он передает судам свою власть отправлять правосудие, он не уступает ее; он сохраняет ее во всей целости и может приостановить исполнение приговора или сделать его более жестоким по собственной воле»[707]. Несомненно, автором генерального сценария был И. Сталин, какие приговоры на каком этапе выносятся, обозначал он. Сами этапы «разбора» с местными кадрами являются прекрасной иллюстрацией того, что происходило в то время в сельском хозяйстве и в стране в целом.
Если в первой половине 1937 г. власть пыталась «переутвердить» себя посредством видимости налаживания контактов с крестьянством (отдельные уступки, показательные суды), то во второй половине того же года провела самую массовую репрессивную акцию по приказу НКВД № 00447, основной жертвой которой стали крестьяне. В 1938 г. сами суды над обижающими крестьян начальниками были признаны вредительскими. Последующие постановления, касающиеся сельского хозяйства, возвращают все на круги своя.
4 декабря 1938 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о нарушении устава сельскохозяйственной артели в колхозах БССР. Для реализации решения снова ЦК КП(б)Б посылал инструкторов и инспекторов на места для проведения необходимых мероприятий. Так, только в Речицкий район было послано 64 чел.[708] Среди основных нарушений фигурировали: превышение допустимых норм владения скотом колхозниками (наличие лошади, более одной коровы и др.), превышение площади приусадебного участка (более 0,5 га), невыработка минимума трудодней в колхозах (менее 80 трудодней в год).
Согласно уставу сельскохозяйственной артели колхознику, в отличие от единоличника, не разрешалось иметь лошадь в подсобном хозяйстве, предполагалось, что все его нужды будет удовлетворять колхоз. Если колхозник отказывался обобществить свою лошадь, его исключали из колхоза[709]. Однако оказалось, что колхозы предоставляли лошадей колхозникам нередко за плату (за поездку на базар – по 3 руб., на свадьбу – 5 руб., в церковь – 15 руб., за вспашку приусадебного участка 20 руб., а за сверх нормы и за обработку запасных фондов по 1 руб. за сотку)