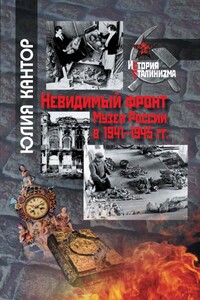Клеймение Красного Дракона. 1937–1939 гг. в БССР | страница 118
Однако дело совсем закрыто не было, оно было переформатировано: из всех обвиняемых по делу оставалось 3 чел.: бывший зоотехник Н. В. Воевода, бывший старший райврач В. И. Нестерович и бывший заведующий ветеринарной баклабораторией М. С. Власенко. То есть теперь дело фактически было сведено к вредительству в животноводстве. Все трое обвинялись в антисовесткой деятельности, расследование вело Оршанское райотделение НКВД[689].
На примере последних дел совершенно очевидно прослеживается, насколько процессы в сельском хозяйстве проходили в русле общих тенденций репрессивной политики: к концу 1938 г. их начинают использовать против органов суда и прокуратуры, в 1939 г. – против сотрудников НКВД (дискурс «нарушения социалистической законности» в самом широком смысле был доминирующим во время purge of the purges)[690], ЦК КП(б)Б. Также очевиден период противостояния прокуратуры и НКВД – кто из них должен нести ответственность.
14 декабря 1939 г. снова были пересмотрены приговоры по Дубровенскому делу. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР отмечала, что осужденные Мышалов, Самулевич и Орлов злоупотребляли своим служебным положением, однако теперь, во-первых, подчеркивалось, что данных, свидетельствующих, что злоупотребления совершались в контрреволюционных целях, нет. Во-вторых, приводится ряд смягчающих обстоятельств: суд не учел, что выполнение государственных поставок в районе со стороны некоторых единоличников саботировалось, что район заносился на «черную доску» как отстающий, как не выполняющий госпоставки. Последний факт должен был служить, вероятно, достаточным основанием для применения чрезвычайных мер и неконтролируемого насилия. Относительно работы МТС теперь уже сообщалось, что она не имела достаточного количества горючего, не было опыта использования комбайнов и т. д.[691], т. е. в таких условиях и не могла обспечить нормальное функционирование техники.
В итоге приговор С. М. Мышалова был переквалифицирован с антисоветских действий на злоупотребление властью, новая мера наказания – 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях; И. И. Самулевичу и у Е. А. Орлов мера наказания снижалась до пяти, Н. А. Радивиновичу – до трех лет лишения свободы. Все – без поражения в правах с зачетом отбытого ими срока