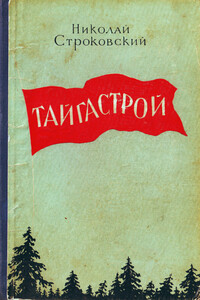Меланхолия | страница 22
Подул ветерок и сорвал с ветвей несколько холодных капелек за ворот. И неприятно и вместе с тем вроде бы приятно. «Если идти после дождя по меже, среди высокого густого жита, вода так же брызжет в лицо, приятно и весело от нее»,— подумал Лявон, затем плотнее закрыл глаза и вспомнил родное поле. «Росистое утро, ясное, но уже не такое теплое, как в начале лета, солнце... Бабы жнут овес. Вокруг тишина. На сжатый пригорок мальчишки пустили лошадей, а сами, путаясь в уздечках, затеяли борьбу. Мужик с косой на плече идет докашивать болото. Спелые сливы черными гроздьями свисают с ветвей; белые же сливы, такие прозрачно-розовые на солнце, так соблазнительно смотрят на тебя, что рука сама тянется сорвать их и попробовать, смакуя...» У Лявона даже сладко стало во рту, как и тогда, на Ивана Головореза, когда ходил с матерью к тетушке в гости и ел у нее мед с яблоками и необычайно вкусные и красивые белые сливы. «Жатва... Уже с рассвета молотят. Цепы — та-та-та! Та-та-та! За рощей, у шляхты, гудит молотилка, гудит и дрожит...» Вот и тут Лявон — среди шума, только не того, деревенского, а городского, противного, с ночным хохотом и ночными слезами нервных девчат и болезненных парней, с ноющей болью под ложечкой и постоянным чадом в голове. И в этом шуме он всегда был чужим и одиноким.
Динь-динь-динь!..— ударила в уши дробная трель вокзального звонка. Лявону не хотелось ни сидеть, ни ходить, но он встал со скамейки и медленным шагом подался на вокзал.
Длиннющий ряд возниц стоял возле крыльца. Лошади нетерпеливо стригли ушами, били копытами землю. В будках, за столами с колбасой, хлебом, яблоками, конфетами, папиросами и разным мелким товаром сидели, как наседки, мещанки. Зычными голосами зазывали к своему товару прохожих, ссорились между собой резко и визгливо, но в действительности только язвительно, а не злобно. И этих бедных будок было не счесть. В самой дальней из них сидел однорукий дед и терпеливо объяснял безусому, худощавому, с птичьим носиком солдатику, что у его соседки яблоки гнилые и горькие, а вот у него сладкие и на копейку дешевле. Солдатик, однако, выслушал старика и, ничего не купив, пошел своей дорогой. Соседка же, толстая, с грубым голосом баба-мещанка, только посмеивалась над дедом.
Из дверей вокзального здания долетал гул и гомон. Шныряли по площади газетчики, бегали носильщики, а у входа в камеру хранения, куда Лявон сдал свою корзину, целая банда разных людей, с названиями гостиниц на золотых околышах красных фуражек, на разные голоса и со всевозможными подходами выкрикивала названия этих своих гостиниц, лишь одинаково оглушая всех. А прохожие осторожно обходили их стороной. В багажной камере со скрипом и грохотом работала подъемная машина. На чистой половине расхаживали от уборной до буфета и назад, и дальше, господа. Здесь можно было увидеть барышень, мальчишек в форме, важного толстого господина с огромной собакой на цепи, каких-то дам. К окошку кассы третьего класса, поодаль, с противоположной стороны тянулся хвост, демократически-жалкий. Обойдя его, Лявон оказался в третьем классе, откуда вырывался шум, громкие голоса, похоже было на солдатскую свару, плыл тяжелый спертый воздух и холод из открытых дверей. На скамьях и грязном полу, на ящиках и узлах, корзинах, во всех углах лежали оборванные, серые, лохматые, а иногда подвыпившие и какие-то болезненно-бессонные люди: крестьяне с бородами и без бород, а с усами, как щетка; солдаты, мастеровые с инструментами в мешках. Там расхаживал плотный, рослый здоровяк-жандарм и скалил зубы и бесстыже шутил с молодицами, а затем с каким-то пьянчугой возле группы солдат и двух расхристанных девок или баб в городской одежде. У кассового окошка тем временем шла перебранка и толкотня.