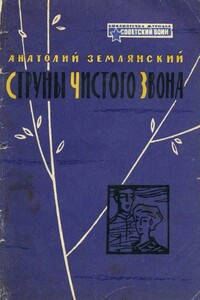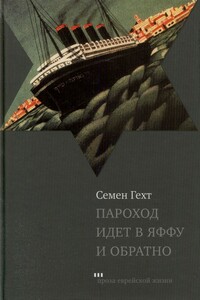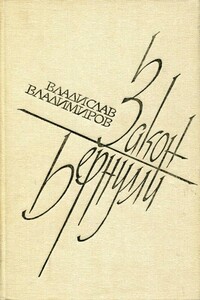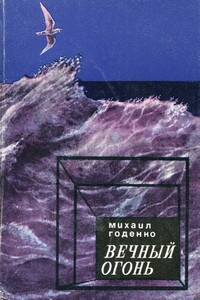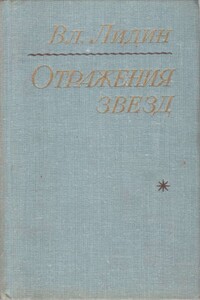Пульс памяти | страница 163
к холмику которого я только что подошел; и
Стрельцова Павла Валентиновича, 1910 г. рожд…,
о котором я узнал со следующей таблички…
И еще, и еще — знакомые, знакомые, знакомые фамилии.
Даже если фамилии и не были названы, все равно они воспринимались как знакомые, и я видел этих людей живыми — там, рядом с Федором, куда бы ни заносило его военным ветром. Как видел их и рядом с отцом, и бок о бок с Василием. И сам, думалось, тоже где-то встречался с ними — словно были мы все роднёй от рождения.
Кругом — могилы и могилы, а имена на поржавевших жестянках — живые. Это, наверное, самая высокая награда человеку за все сделанное им: он мертв, а думают о нем, как о живом. Делают его действующим лицом повествования, обрисовывают черты, говорят о привычках, припоминают самое, казалось бы, пустячное: как свертывал человек самокрутку, втягивал и выдыхал дым. Или — еще пустячнее, — как почесывал выцветшую бровь…
Так рассказывал о своих фронтовых побратимах Федор.
…От ночного подъема по тревоге, бросившего их роту в Подпаневежисский лес, путь Федора, волей приказов, пролег в тыловую глубь. Сначала в школу политсостава, а вскоре опять на учебу, только уже командирскую. Называлось это длинным и неуклюжим словом — переподготовка.
Поездка за поездкой — и все дальше на север. Федор окрестил это в шутку хождением к Белу морю. И добавлял при этом:
— За выковкой.
Сумрачным осенним днем паровоз притащил вереницу стареньких вагонов на станцию Архангельск. Не успели выгрузиться — сгустился вечер, липкий и промозглый, как мокрая ветошь. Вышли к перевозу в город — заметили в темноте воду. И только теперь вспомнили, что это Двина. Прибавлять к ней слово Северная было ни к чему: какая может быть еще Двина без Архангельска!
Взошли на переправочный катер — удивились непривычному шороху за бортом. Вода не плескалась, а скребла по железной обшивке. Присмотрелись — поняли: катерок шел уже по ледяной каше. Загустевала Северная Двина, и оттого, оказывается, таким пробивным был гулявший над рекой ветер.
Потом шли — что за странность! — деревянными тротуарами. И мостовые улиц были такими же деревянными. И чуть ли не все дома тоже…
Дерево почти не давало под шагом звука. А если бы и давало, то все равно его, наверное, съела бы эта вязкая и сырая темнота. Потому что она господствовала тут надо всем. Даже светившиеся окна домов были заметно притемнены ею; и все сумрачное низкое небо находилось под тем же тягуче-липким игом. И проходная, через которую их провели, а затем и коридор деревянной казармы, да и сама казарма — все противилось немощному свету крохотных электролампочек, подчиняясь той же самой власти позднего осеннего вечера.