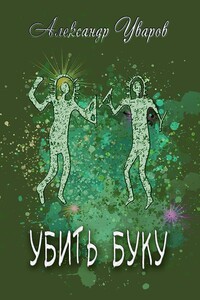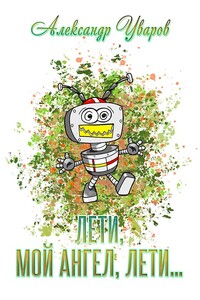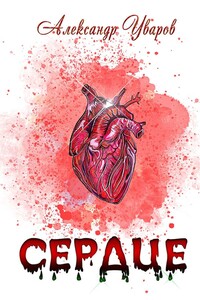Месяц смертника | страница 41
Глаза птицы, яростные и бесчувственно-мёртвые, алые, словно пламенем подсвеченные изнутри, без зрачков и радужной оболочки, наполненные одним лишь огненным этим цветом, были неподвижны. Ни чувств, ни мыслей, ни даже безумия. Только огонь, всепожирающий, всенаполняющий огонь был в них.
И больше ничего.
Клюв её раздался вширь и походил теперь на уродливый, искривлённый механической ухмылкой рот, уголки которого едва не смыкались у неё на затылке, отчего при каждом её хрипло-звенящем, клокочущем выкрике казалось, будто птица, скалясь, выкрикивает какие-то издевательства.
А на лапах… Вот ведь мерзость! И когда успели?..
…Отрасли у неё пальцы с обломанными, грязными ногтями. Пальцы успели уже посинеть от холода (прежними-то птичьими лапами куда проще было ходить по промёрзшей земле), и птица, поочерёдно поднимая лапы, грела их, сжимая в кулаки.
— …И задел своё ухо. Ты в этом виноват! Только ты и никто другой! И снова валишь всё на меня? Не позволю!
— А ты ведь изменилась, — прошептал я, боком, потихоньку (чтобы не спугнуть) подбираясь к птице.
Теперь-то я твёрдо и окончательно решил, что утоплю её. Обязательно утоплю!
Её уже нельзя оставлять в живых.
Она убьёт меня! У меня уже не оставалось никаких сомнений, что она непременно убьёт меня, если я не убью её.
Прямо сейчас!
Схватить её. И тащить. И бросить в пруд!
Она стала гораздо тяжелее. Она теперь — из металла!
Не выплывет.
— Да, — гордо сказала птица.
И хлопнула крыльями так сильно, что белые искры вылетели из-под них и посыпались на асфальт.
— Вот! Смотри! Красиво? А звук какой! Ты никогда не называл меня по имени?
— Мне плевать на твоё имя, — ответил я и ещё на полшага придвинулся к ней.
— Теперь называй! Только по имени! И больше никак! Меня зовут Железная Птица!
— Очень приятно, — прошептал я.
И, прыгнув вперёд, упал животом на железную тварь, прижав её к земле.
— А железо-то от воды ржавеет, — злорадно произнёс я, плотнее придавливая барахтающуюся птицу к земле.
— По… жалеешь! — скрипнула птица.
Хорошо, что она не могла сейчас ударить меня клювом.
Теперь каждый такой удар мог быть для меня смертельным.
Мне десять лет.
Перемена, школьный туалет.
Старшеклассник… кажется, из 7-го «Б». Он стоит у унитаза с полуспущенными брюками, мочится неспешно, неторопливо, насвистывая еле слышно какую-то песенку, мотив которой я так и не смог узнать.
Что-то знакомое, эстрадное. Такая лёгкая, прилипчивая мелодия.
Я так и не смог изгнать её из своей памяти, эту липкую, неотвязную мелодию. Каждый раз, когда голова моя начинает болеть, каждый раз, когда голова моя начинает стремительно тяжелеть, наливаясь густой и горячей кровью, и клониться к земле; каждый раз, когда веки мои начинают часто и мелко дрожать и глаза затягивает серым туманом — я слышу эту мелодию, этот свист; свист всё громче, слышу его, он нарастает, я не выдерживаю, я подхватываю его, я пытаюсь напеть эту неведомую мне песню, пытаюсь отыскать в памяти слова её, хотя и знаю точно, что их там нет.