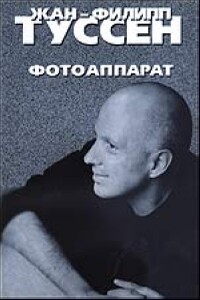Немного пожить | страница 72
Попытки упорядоченно вспоминать собственную жизнь даются с трудом. Так же трудно разобраться, где что находится у тебя в голове. Подвижным пластам памяти никак не лежится на их местах. Сначала они появляются, потом мчатся мимо, унося прочь полузнакомые лица и события, похищая то, что раньше принадлежало ей; потом откуда-то сбоку выплывают какие-то неописуемые формы, они чинно вращаются, как будто приглашая ее на борт, кое-что возвращая — не утраченные лица и события, а само воспоминание о воспоминаниях. Она как бы восседает в центре бесшумной Войны Миров, ведущейся не за территорию, а за измерение, за само значение «где» и «когда».
Она знает, что должно произойти: пространство очистится, вращение дисков замедлится, они сойдутся и сольются в один, это будет как полное затмение. Потом она вернется в настоящее, зная, где что находится, уверенная, что ей опять доступна навигация не только по памяти, но и по собственной квартире, где ей знакомы все комнаты и направление, в котором следует двигаться, переходя из одной в другую.
Она откладывает вышивку. У нее устали глаза. Она разглядывает одну из школьных фотографий, но никого на ней не узнает. Это потому, что устали глаза, успокаивает она себя. Завтра будет по-другому.
Она зовет Эйфорию и просит чаю. На ее взгляд, Эйфория никогда еще не была такой сияющей, такой роскошной красавицей. Дело, видно, в ее платье с африканским рисунком.
— Ты влюблена, Эйфория? — спрашивает она.
— Не больше, чем обычно, миссис Берил, — следует отчет.
— Знаешь, что сказала Винни Мандела, когда познакомилась со своим будущим мужем?
Она подозревает, что Эйфория не обязательно знает, кто такая Винни Мандела. Считать, что она обязана это знать, — несомненный расизм.
— Нет, мэм.
— Она сказала да.
Эйфория не знает, что ответить.
— Как мило, — говорит она, помявшись.
В наступившем молчании она взбивает подушки на кресле в спальне. На них вышита золотом сценка лесной охоты.
— Они познакомились на автобусной остановке, — продолжает Принцесса.
Эйфория идет за еще одной подушкой, чтобы взбить и ее.
— Это великая история любви. Вернее, это была великая история любви.
— Случилось что-то нехорошее, миссис Берил?
— Конечно. Как всегда. Но некоторое время, давным-давно, они были будущим, мы возлагали на них все наши надежды, даже я, не имевшая никаких надежд. — Вопреки своему обыкновению, Принцесса улыбается, вспоминая надежды, которых она не питала из высокомерия. — Знаешь, — говорит она, уже не обращаясь к Эйфории, — все мы прошли через этап стояния на автобусных остановках на случай встречи со своим Нельсоном Манделой. Так я познакомилась с отцом Пена — на остановке на Трафальгарской площади. Я приехала на демонстрацию против ядерного оружия. Не то чтобы я была ярой противницей ядерного оружия — на мой взгляд, оно могло оказаться очень кстати, — просто хотела показать демонстрацию Сэнди. Ему было лет шесть, и он становился вылитым папашей. Он уже выступал за отмену налога на наследство. Пора, думала я — если вообще о чем-то таком думала, — расширять его кругозор. Вот демонстрация, вот философ-пацифист Бертран Рассел, вот люди, вот автобус. Отец Пена, выступив перед демонстрантами, пришел на ту остановку. Не знаю, как его туда занесло. Может, клюнул на мою развратную стойку: известно, как подманивают клиента шлюхи, даже если держат за руку маленького мальчика. Без громкоговорителя он робел и обращался скорее к Сэнди, чем ко мне.