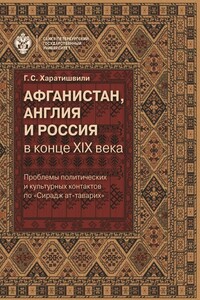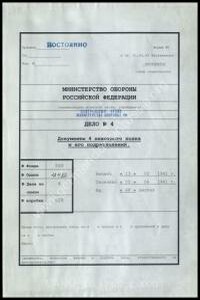В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов | страница 38
— А чем вы все-таки объясняете такую ненасытную жажду чтения у Горького? Ведь он даже Чехова подозревает в невежестве, Толстого? Интересно, что, великолепно образованный, он как-то внутренне робел перед дипломированными людьми, перед «аристократами», боялся, что может показаться им недостаточно культурным. Сложным человеком был Горький. Противоречивым. В последние годы в его голосе нет-нет да и прорывались нотки снисходительности...
Прервал рассказ и, любуясь выступлением фигуристов, говорил:
— Вот и в нашем деле: часто молодой писатель не владеет тайнами мастерства, неопытен, но... один жест юности, удачный, верный, непосредственный и — все получилось.
14 февраля 1970 г.
Продолжаем работу над материалом из архива Горького. Но еще вчера по телефону он разыграл меня. Изменив голос, он спросил:
— Это член редколлегии «Нового мира»?
— Простите, с кем я разговариваю?
— Я — писатель. Написал роман объемом 157 авторских листов и хочу предложить «Новому миру». Моя фамилия — Леонов.
Сегодня он с этого начал:
— Редакцию журнала надо было обновить. Хорошо, что вы согласились. Но редактором надо было назначать писателя. Косолапое — недостаточно авторитетная фигура.
— Л.М., я «согласился» поневоле, как член партии, по приказу. Я не верю, что линию этого журнала, групповщину его можно изменить, если аппарат там остается. И зачем мне это? Я бы с удовольствием пошел в новый журнал, если бы его создали, где редколлегия состояла бы из значительных русских писателей и критиков, которые способны думать не о личных и групповых интересах, а об интересах нашей литературы, нашей страны. А так — я ведь член многих редколлегий, но ни один журнал мне не кажется лучшим. Можно бы поднять уровень журналов, их значимость для культуры.
— Это верно. Журнальное дело очень важно и для писателя, и для читателя.
Перешли к Горькому.
— Знаете, то, что рассказывали близкие о последних днях Горького, — страшно. Я был ошеломлен холодом и брезгливостью рассказа П. Крючкова, записанного Тихоновым, ссорами между Будберг и Екатериной Павловной, тем, что передала Олимпиада Черткова... (переданные Леоновым подробности опускаются).
Снова говорим о современной литературе, о Солженицыне.
— Не обидели мы его чем-нибудь? Я спросил у П.Н. Демичева — не допустили ли в отношении Солженицына небрежности? Он ответил, что беседовал с ним будто мирно и обнадеживающе.
— В литературе не должно быть запретных тем. Кто-то думает, что народ можно заставить вычеркнуть из своей памяти, из своей истории то или иное десятилетие. Мы должны говорить безбоязненно обо всем. Я в своем романе касаюсь самых острых проблем нашего времени... Но в «Раковом корпусе» — страшная тема: люди гниют и, чтобы не задохнуться, чтобы как-то уравновесить страшное, нужно широкое и очень глубокое небо. Без этого человека только можно удушить, а это не дело писателя. Без нас в мире человека есть кому душить. У нас же совсем другая задача: помочь ему разгадать и себя, и мир. Я уверен, что этот большой смысл может быть раскрыт, выражен каким-то золотым иероглифом. Разгадать его стремился Л. Толстой, Достоевский, Чехов. Его можно разгадать. Думаете, Горький разгадал? Да, он принимал идею коммунизма, как принимаем мы с вами. Но он чувствовал, что она лишь открывает путь к разгадке этого иероглифа. И он лихорадочно листал книгу за книгой, надеясь найти тот специфический ответ, который от него ожидается как от художника. Именно в поиске этого иероглифа подлинный Достоевский, перехлестывающий все идеи и идеалы, которые маячат в его творчестве. Он чувствует, и мы чувствуем, что эта энергия, эта страсть, эта устремленность порождаются чем-то большим во имя чего-то большего. Для меня искусство есть квадратный корень, выведенный из всех наших знаний о мире и помноженный на минус единицу, под которой понимайте талант, интуицию, непосредственность видения мира и еще многое другое. Подсознание тоже не исключается, ибо оно есть то, чего мы пока не разгадали, как вы правильно где-то написали.