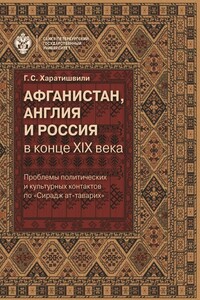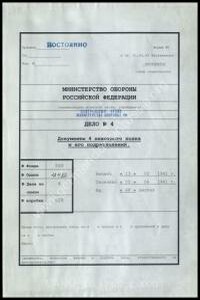В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов | страница 39
И стал рассказывать о снах, предчувствиях, сетовал, что психологи наши ленивы и не любопытны. Вспомнил, как жил в годы войны.
— Осенью 1941 года получил, после долгих бедствий, первый, после запрещения «Метели», гонорар, 16 тысяч. Пришел в банк и попросил, чтобы 8 тысяч у меня приняли в фонд обороны. После долгих выяснений приняли. Три тысячи выслал семье в Чистополь. Полторы забрал Панферов, на остальные купил подарков и решил 7 октября выехать в Чистополь. Поехал и — был отрезан от Москвы. Квартиры там не нашлось. Снял полуподвальное помещение бывшего квасного заведения. В деревянном полу огромные щели, из которых выглядывали рыжеватые крысы. Одна особенно назойливо и ехидно следила глазом за тем, как я, скрючившись, писал «Нашествие». Вот откуда в пьесе мышь — помните? Холод и нужда, но написал.
17 февраля 1970 г.
По телефону сообщил, что читает «В круге первом». «Вернее, перечитываю. Очень трудночитаемое произведение. Откуда у Солженицына такое знание подробностей? Выдумывает? У него Сталин — рыжий. А я видел его черным. Многое выдумывает? У меня в «Русском лесе» есть фраза, что «все правдоподобно о неизвестном».
20 февраля 1970 г.
Разговор по телефону:
— Очень плохо чувствую себя. Есть вещи, являющиеся показателем духовного здоровья государства. Литература среди них стоит на первом месте. Если сейчас в литературе так мало светлого — это должно обеспокоить государство. Между тем, как плохо к нам относятся. Подумать только, два года тому назад я сделал доклад о Горьком, и до сих пор его не могут выпустить. Книгу бы пьес отдельным изданием? Ничего нет!
4 марта 1970 г.
На мой вопрос, прочел ли он «В круге первом», ответил:
— Дочитываю. Солженицын не умеет вычеркивать. Между тем, вычеркивание — могучий усилитель таланта.
— Нет отбора?
— Да, он дает все, с сукровицей. Он не знает, что художники не пользуются черной краской. И не знает, ниже чего искусство не может идти. Вот, например, слово «труп» — противопоказано. Ниже этого слова уже не может быть, разве что «гумус». И только Пушкин соблюдал художественную меру его употребления: «Как труп в пустыне я лежал...» У Л. Толстого же «Живой труп» безвкусно. «Труп» - это чисто полицейский термин.
— Все думаю, не допустили ли мы ошибки с Солженицыным. А в искусстве чего-то ему очень не хватает.
— Души. Широты души. Только человек с широкой душой может подняться над этим всем, как Достоевский. Что-то в нем искусственное. Язык, например, перенасыщен знанием словарей, а не народной речи. Патриотизм ущербный какой-то. В первом талантливом рассказе о русском человеке Иване Денисовиче униженность доведена до предела, кафкианство будто. Что, Андрею Соколову было легче в плену у немцев, чем Ивану Денисовичу? Однако шолоховский герой сохранил человеческое достоинство, а солженицынский — только умение выживать, стать насекомым, но выжить.