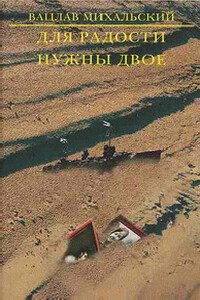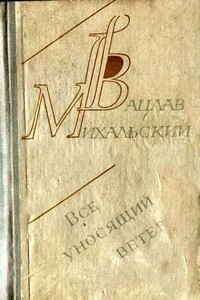Мир тесен | страница 80
— Не надо, мама! Я всё это сама передумала тысячу раз, тысячу раз всё это сама себе говорила. Заварите манную крупу кипятком, сейчас Олежка проснётся, пусть крупа распарится, пора кашу варить, молока у меня нет, нечем его кормить.
«Сердце облегчить», — вспомнила Оля слова тёти Кати и с тоской подумала, что ей уже ничем не облегчить своего сердца. Оно казалось ей подушечкой, утыканной иголками разной величины — как ни повернись, что ни делай, ни думай — все больно! Перед всеми Оля чувствовала себя виноватой и больше всех перед Олежкой — зачем лишила его отца? Зачем вместо отца дала человека, который от угла, где стоит колыбель младенца, отводит глаза?
Так уж стряслось, повелось, приключилось, что Оля и Борис, живя бок о бок, числясь для всех мужем и женой, почти не говорили друг с другом. А когда говорили, смотрели оба в пол. Только Боре они смотрели в глаза и видели там свои отражения. Было ли на свете два человека более далеких друг другу и так навечно, безжалостно связанных? Когда Боря был при смерти, не сговариваясь, они поклялись: если случится чудо и он выживет, сделать всё так, как захочет мальчик. Сын захотел малого — сын пожелал, чтобы рядом с ним была не одна только любящая мать или любящий отец, а в своём детском, святом эгоизме потребовал, чтоб остались оба — и мама, и папа. Ни о чём другом он и слышать не хотел. А ещё судьба подарила ему маленького брата, к которому Боря относился с большим любопытством, оставила бабу Катю, которая была ему необходима, и убрала Фёдора, которого он возненавидел.
Несчатье с сыном, его распростёртое на гравии железнодорожного полотна тело, залитое кровью, убило в сердце Оли любовь к Борису мгновенно и навсегда. Любовь, которая долгие годы горела в её душе ярким и сильным огнём.
«Ирод» — окрестила тётя Катя Бориса ещё тогда, ещё в первые дни их знакомства с Олей.
«Нет, Борис не был иродом, он просто не любил меня, как любила я, а это человеческому суду неподвластно», — твердила себе Оля, во всём в те годы оправдывавшая Бориса. Как страдала она все годы, как тосковала! В своём бессильном сознании она день за днем восстанавливала их любовь. Днями ломала голову, что он хотел сказать тем давним жестом или кивком головы, улыбкой или словом? Вспоминала вкус его губ, цвет сорочек, которые она ему никогда не стирала и которые так мечтала стирать. Но он жил в общежитии, там была душевая, и прачечная, и Борис сам себе стирал рубашки. Один, один только раз она выпросила у него его выходную безжалостно застиранную сорочку, убедив, что вернёт ей прежнюю белизну. И тайно от девчонок, ночью, кипятила ее в тазике на керогазе, достав «Персоль», которая была тогда дефицитом. Вместе с рубашкой Бориса она положила в тазик и свое белье: кружевной лифчик, комбинацию и белую батистовую блузку. В те минуты она чувствовала себя хозяйкой Бориса. Ей доставляло такую радость это перепутавшееся в тазике её и его бельё! Потом Оля гладила выстиранную, белоснежную рубашку. На выглаженное набегали морщинки: Оля не знала, как правильно гладить мужскую сорочку — в их доме не было мужчин. Она вначале выгладила спину, потом передние полы, потом рукава и уже последним гладила воротник. Оля обжигала пальцы, и чуть не плакала от досады и старания. А утюг, как назло, всё время перегорал. Ей пришлось дважды его разбирать и соединять спираль. Рассвело. Рубашка, старательно сложенная, без единой морщинки, лежала на гладильной доске, сверху Оля положила комбинацию, кружевной лифчик, блузку, и эта интимность радовала и веселила её. Оля и сейчас помнит запах чистого белья, шипенье утюга, черноту поблескивающего титана, остывшего за ночь, и оранжевую полосу утренней зари и улыбку, улыбку не сходившую с её губ…