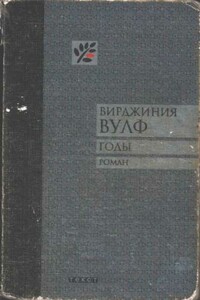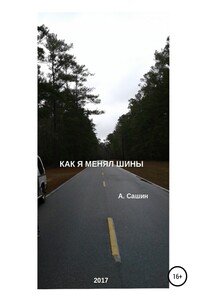Своя комната | страница 29
Ей приходилось ободрять себя мыслью, что ее творения все равно не будут опубликованы, утешаться печальными строками:
И все же ясно, что, если бы ей удалось освободить свой разум от ненависти и страха и очиститься от возмущения и горечи, внутри у нее обнаружился бы пылающий огонь. Нам то и дело попадаются фрагменты чистейшей поэзии:
Эти строки совершенно справедливо воспевал мистер Мерри[16], а Александр Поуп, как считается, особенно ценил следующие:
Бесконечно жаль, что женщину, которая способна была создавать такие строки, чей разум был обращен к природе и созерцанию, принудили к гневу и горечи. Но что же ей было делать, спросила я себя, воображая насмешки и колкости, подхалимство лизоблюдов, скепсис профессиональных поэтов. Возможно, она заперлась в своем загородном доме и мучилась от обиды и угрызений совести – хотя супруг ее был добрым человеком и семейная жизнь протекала гармонично. Я говорю «возможно», поскольку никаких фактов о жизни леди Уинчилси, как водится, не сохранилось. Она ужасно страдала от меланхолии, что вполне понятно, если прочитать, как она об этом пишет:
Запретным занятием были всего лишь невинные рассуждения о снах и природе.
Можно было ожидать, что такие привычки вызовут лишь насмешки в обществе, и действительно: Александр Поуп и Джон Гей, по слухам, прозвали ее «синим чулком со страстью к бумагомарательству». Считается также, что она оскорбила Гея, сказав, что, судя по его поэме «Тривия», ему надлежит скорее нести портшез, чем ехать в нем. Но все это «досужие сплетни», которые, по мнению мистера Мерри, «не представляют интереса». Тут я, впрочем, с ним не согласна, поскольку была бы рада узнать еще какие-нибудь «досужие сплетни», чтобы дополнить или же выдумать образ этой меланхоличной дамы, которая любила прогуливаться по полям, размышлять о разных нелепицах и опрометчиво, бездумно кляла «возню со слугами в именье». Но со временем она стала чересчур многословна, пишет мистер Мерри. Талант ее порос сорняками и шиповником и потерял шансы предстать в своем блистательном величии. Поэтому я убрала леди Уинчилси на полку и обратилась к другой выдающейся даме – герцогине и любимице Чарльза Лэма, легкомысленной и великолепной Маргарет Кавендиш – старшей современнице леди Уинчилси. Они были совсем разными – роднило их лишь аристократическое происхождение, отсутствие детей и счастливый брак. В обеих пылала страсть к поэзии, и обе были искалечены одними и теми же силами. В строках герцогини звучит такая же ярость: «Женщины живут словно Совы или летучие Мыши, трудятся как Скот, а умирают как Черви…» Маргарет тоже могла стать поэтессой: в наши дни такой пыл наверняка нашел бы выход. Как приручить, обуздать такой дикий природный талант? Он хаотично изливался рифмованными и прозаическими потоками, и вся эта поэзия и философия теперь похоронена в изданиях кварто и фолио, которые никто никогда не открывает. Дать бы ей в руки микроскоп, научить бы ее читать по звездам и вести научные рассуждения. Ее свели с ума одиночество и свобода. Никто не интересовался ею, не обучал ее. Учителя перед ней лебезили, а при дворе она была объектом насмешек. Сэр Эджертон Бриджес жаловался на ее грубость – и это от «благородной женщины, воспитанной при дворе». Она заперлась в Уэльбеке.