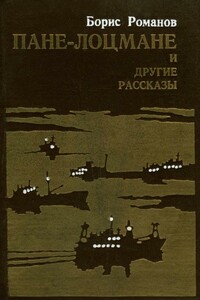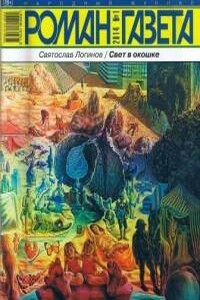Почта с восточного побережья | страница 54
— О матка! Шнапс зер гут! Матка зер гут!
— Э-не… Ich bin alte[5]. Полина зер гут, господин официр!
— Хо-хо, Полина! Гут? Где ест Полина?
— Шляфен унд вартен, герр официр… В постельке ждет. Пока сам-то, слышь, в баньке, а?..
— Хо-хо! Ждат? Мюллер? Сауна? Давай-давай, матка? Чш-ш!..
Матка потчевала офицера, а Филька, царапая глотку комками слюны, раздумывал о том, как бы залучить бутыль сюда, на печь, не навлекая отцовского гнева.
Немец вдруг визгливо захохотал, шлепнул матку по спине, громыхнул столом, пошел в горницу к Полине. Филька прильнул к сучку.
— Фроляйн Полина! Я хотель!..
Немец, споткнувшись, едва не упал на постель, и Филька увидел его белую руку, ползущую по клетчатому одеялу к Полине.
— Фроляйн Полина, я хотель…
— Идите вон!.. Господи, есть ли ты? Идите же вон!
— Фроляйн Полина, чш-ш! — сказал немец, и рука его доползла.
— Уйди, проклятый!.. Орся!.. Господи…. Ксения Андреевна! Люди!.. Филька!
Филька, пожалуй, не шевельнулся бы и предпочел бы досмотреть все со стороны, но Полина выкрикнула его имя так безысходно, будто бросилась в прорубь. Тоска обожгла Фильку, словно он сам под лед провалился, посыпалась перед глазами клюква, и он сам не понял, как оказался у двери, поперек которой крестом раскинула руки Енька.
— Сынок, погоди, пусть… Не трогай!..
Матка отлетела в угол, дверь распахнулась, и сквозь пляшущие багровые круги Филька увидел изгибающуюся, длинную, как у собаки, спину немца.
Ах, позабыл обер-лейтенант про Лорелею!..
Часть вторая
14
Про деда Арсения Егорыча, Василия Ергунева, известно мало: был-де такой крепкий на руку мужик из каменских корел, по прозвищу Молчун, не крепостной, не оброчный, занимался ямщицким извозом — и все. А когда провел государь император железную дорогу и ямщицкий промысел упал, Василий Ергунев из общины вышел и двинулся с молодой женой в услужение в Петербург; был там, как многие бывшие ямщики, ломовым извозчиком, затем конюхом, дворником у графа Палена был. И вернулся в Наволок под старость, на страстной неделе, без жены, да с сыном и при деньгах. В общину его снова взяли, тем более что магарычу выкатил Молчун довольно и тесниться никому не пришлось: выпросил он себе в надел дальнюю лесную заболотную луговину в двенадцать десятин да косогор при доме, по которому никакой конь сохи не протянет. Вскоре, летом, на обретенье матери Елены и царя Константина, поселил он у себя в лесу полтора десятка семей пчел-боровок, да не только в колодах, а и в неизвестных еще наволоцкому люду ульях. Поняли односельчане, что отбила городская жизнь у Молчуна вкус к земле, ломаным он в Наволок вернулся, удивлялись только, когда он успел натореть в пчеловодстве, но и это прояснилось, когда от питерских земляков узнали, что из конюхов он подавался в барские пчельники, но скоро снова к коням вернулся. Поговаривали еще земляки, что сын Егор у Молчуна неродный, а будто бы бариново семя. Никто, конечно, на святом кресте этого доказать не мог, но что пчелы дарены ему были с барской усадьбы — земляки знали точно, да и средств, как выяснилось в дальнейшем, у Молчуна было скоплено не по конюховскому жалованью. Наводило на подозрение и то, что были Молчун с сыном разной масти, да и на разный копыл кроены, когда рядом стоят — бурый рак и уклейка.