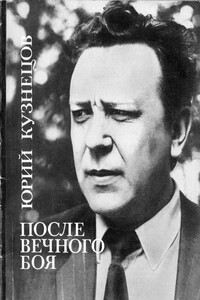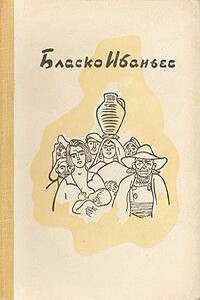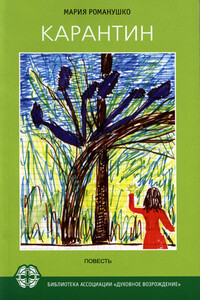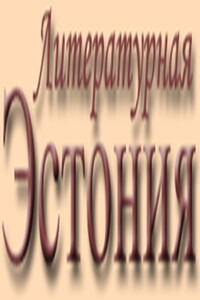Тропы вечных тем: проза поэта | страница 126
Вот она, «гулевая осенняя воля»!
От Годунова до Будённого, от старой былины до грядущей поэмы — есть где разгуляться. Мир распахнут в оба конца. Конечно, такой свободы не купишь ценой быта. Тут плата дороже.
1975, 1978, 1981
О СТИХАХ ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВА
В конце прошлого года, в одной из случайных поездок, мне, можно сказать, повезло. На берегу студёной Лены я познакомился с Владимиром Фёдоровым, неизвестным молодым человеком. Есть в его стихах некое поэтическое предзнаменование. Во всяком случае, так мне кажется. Если я ошибаюсь, то тем хуже для молодой русской поэзии, а Фёдоров это переживёт, поскольку ничего не подозревает и ни на что не претендует.
Обратимся к стихам. Да, они угловаты. То там, то сям прорывается детская непосредственность. Чувствуется, что стихи писала размашистая, но лёгкая рука.
Рифмы самые обычные: «тень — деревень», даже размытые «порога — дороге», «просекам — осень», более того, почти никакие: «слов — село», «за ним — дни», «давно — снов» и т. п., есть и тавтология: «гости — погосты», но по первую пору не так страшно. Хотя стоит и напомнить, что на рифму может не обращать внимания только тот, кто владеет ею в совершенстве.
Слух не развит. Об этом говорят рифмы и такая раздробица в строке: «И след наш здесь — лишь призрачная тень». Но слух есть. Правда, детский. «Льдин пыхтение» — так может услышать только ребёнок. Казалось, пустяк. Но в другом месте (стихотворение «Гусли») детский слух ловит символ. Это обнадёживает, ибо природа такого слуха способна слышать запредельное. Например: «И звезда с звездою говорит» (Лермонтов), «…время стоит? Или ангел летит?» (Блок).
Фёдоров осязает то, что осязать невозможно: