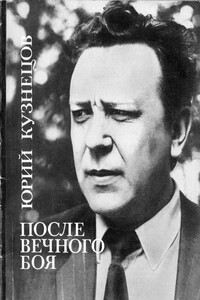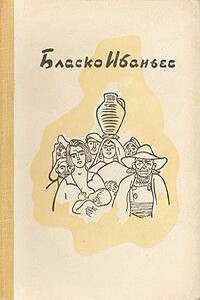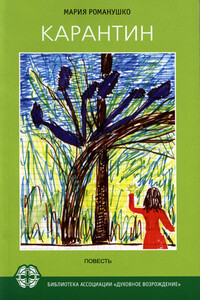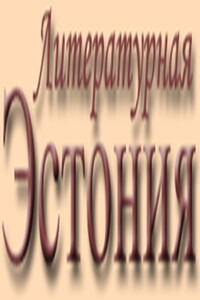Тропы вечных тем: проза поэта | страница 125
1974
ПЕВЕЦ САМОЦВЕТНОГО СЛОВА
(О поэзии Николая Тряпкина)[110]
Со времён Кольцова в русской поэзии тянется одна золотая нить, связанная с народным ладом. Она прошла через Некрасова и Никитина, на краткое время посеребрённая Клюевым, дошла до Есенина, а от него через А. Прокофьева дотянулась до Николая Тряпкина, который в ряду этих имён самостоятелен и ни на кого не похож. А что касается нашего времени, то в единой планетарной системе поэтических величин он уникален и довлеет самому себе, как крупная звезда.
Николай Иванович Тряпкин родился на заре советской власти в глухой тверской деревушке. Атмосфера народного говора, былин, сказов, бывальщин, поэзия земледельческого труда питала детскую душу.
Детские впечатления сформировали из него неповторимую личность, и он навсегда остался верен первым святыням. «И гляжу я на землю глазами ребёнка», — скажет он уже седым. Не каждому дано глядеть на мир глазами ребёнка, но таков дар судьбы, ниспосланный поэту.[112]
Николай Тряпкин близок к фольклорному началу и этнографической среде, но близок как летящая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его стихах всегда возникает ощущение ликующего полёта, удерживаемого земным притяжением, ибо талант поэта удивительно чуток к равновесию. Он никогда не опускается до стилизации — он творит. Достаточно образа, строчки, пословицы, случайно услышанного напева, чтобы это тут же навеяло ему целое стихотворение, оригинальное и совершенное по форме. Бытовые подробности в его стихах отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. Читая его стихи, не можешь не воскликнуть: «Тут русский дух! Тут Русью пахнет!».
Влияние поэта стремительно растёт, однако всё его самобытное творчество ещё ждёт настоящей оценки. Критика отмечала его чистый и напевный голос, светлое узорочье словаря, особливую лебединую стать, но подозревала в нём некую закруглённость диапазона. Так ли это?