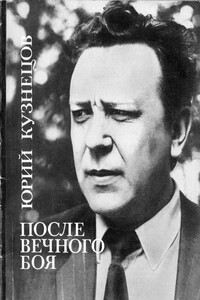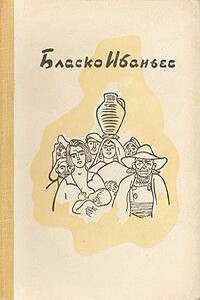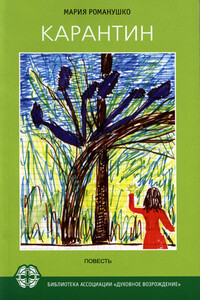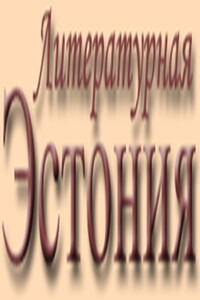Тропы вечных тем: проза поэта | страница 127
У него редкий дар: осязать поверхность недосягаемых вещей. И как при этом расширяется объём стиха! Несомненно, тут кроются большие потенциальные возможности.
Он свежо видит цвет: «Красный лист с горящею росой». Такая изобразительность уже не пустяки, но Фёдоров способен на большее. Он обладает внутренним зрением, которому открыты уже не оттенки и виды, а видения. Одно из лучших его стихотворений «Сон» — это видение. Не каждому дано такое. Само же стихотворение далось без всяких усилий и почти без мастерства, как вообще все стихи из подборки.
Но перейдём к эпитету. Эпитет — самый верный показатель духовного уровня. Каков мир поэта — таков и его эпитет. Скуден мир — скуден и эпитет. Богат мир — богат и эпитет. Молодым талантам обычно присущ свежий, взрывной, эмоциональный эпитет, зачастую возвышенно-расплывчатый.
«Чёрные лошади», «мокрые валенки», «молодые ветры», «серая стая», «оранжевый костёр», «щемящая боль», «синий град», «иссохший кулак» и т. д. — таковы эпитеты Фёдорова. Они на уровне ощущений. Это начальный уровень поэтического мышления. Однако данное мышление всё-таки чревато… Чем чревато? Кто знает. Но если появились гусли и чёрные лошади, то можно надеяться. Порывы есть, но они не закреплены отчётливым эпитетом. Это придёт со зрелостью. Если, конечно, придёт. К другим приходило. Вот высокие примеры: «И равнодушная природа», «пышное природы увяданье» (Пушкин), «…неполной радостью земной» (Лермонтов), «Пора приниматься за дело, за старинное дело своё» (Блок). Тут эпитет открывает необозримые дали духовного мира. Но это уже мировоззренческий эпитет. В «мокрых валенках» к нему не дойдёшь. А ведь сколько молодых талантов топчутся в «мокрых валенках»! Да и не только молодых… Ну что же! Смелей, поэт! Хоть босиком, но вперёд!
А теперь о главном. Это память. Не детская (стихи о наводнении), а такая, которая преодолевает детскую и вообще идёт дальше рождения и смерти отдельного человека. Такая память называется народной. Она живёт в каждом из нас, но подспудно. Если с ней утратить связь, то человек дичает и глохнет и, как перекати-поле, обречён блуждать по мёртвым просторам духовного космополитизма. Владимиру Фёдорову дано её ощущать. Его поэтическая память вызывает из могилы прадеда. (Кстати, «Прадед» — второе лучшее стихотворение:
Она же вызывает из небытия музыкальный перезвон гуслей. Она же присутствует в стихотворениях «Алмазы», «И снова с головою обнажённой». В такой памяти живо всё. И никогда не умирало, и никогда не умолкало. И прорвалось во Владимире Фёдорове. Для молодой русской поэзии такой прорыв — предзнаменование. А что будет дальше, покажет время.