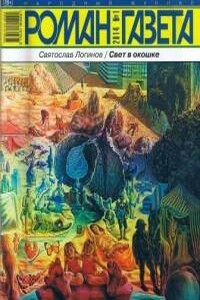Битва | страница 81
А через неделю, в субботу, Моренов с внезапным предчувствием раскрыл первой ту молодежную газету и на третьей странице внизу увидел — невысокий подвал был озаглавлен: «Накипь»; глаза Моренова скользнули в конец статьи: «Осмир Половинкин»… Пробежал последний абзац:
«Суд еще не состоялся, он впереди, идет пока следствие, и каждый из «героев» этой гнусной истории, будем надеяться, получит свое справедливое возмездие, получит по заслугам, но уже сейчас можно и нужно спросить: какова же мораль таких андреев мореновых, как и из каких щелей, темных углов они являются на свет в нашем обществе? На это мы и попробовали ответить и верим, что читатель с нами согласится: накипь надо своевременно снимать, от нее надо безжалостно избавляться».
Одним мгновенным ударом Моренову будто вонзили в грудь иглу, он сжался от боли, роняя газету, откидываясь на диван, слабо, на пресекшемся вдохе, позвал:
— Галя…
В госпитале, когда чуть отпустило, полегчало, он перечитал статью, она не произвела на него впечатления — как-то все в нем было пусто и отъединенно, — только садистское убийство, описанное со скрупулезной, покоробившей его детальностью, отозвалось какой-то жутью, но все, что говорилось об Андрее, все «довороты» убийства на него показались фальшивыми, придуманными. Моренов понимал — говорили в нем чувства, а не разум, и он спорил сам с собой: «Все эмоции, эмоции!.. На них — ты же знаешь — нельзя опираться в серьезных выводах. И эмоции твои основаны на простом: мол, не может быть, чтоб твой сын… Не может? А факты? Там же статья. Пусть в ней есть преувеличения, но от факта-то никуда не уйдешь. Не уйдешь, Моренов! Все в твоей жизни внезапно развалилось, разрушилось в прах…» Испарина выступала на груди, на лице, и когда в подобную минуту в палату, случалось, заходили сестра или врач, подступали с вопросом: «Вам плохо»? — он усыплял их бдительность: «Да нет, ничего… Со мной ничего». Не посвящать же их в свои горестные мысли: они только его, и ничьи больше.
Там, в госпитале, Моренов все чаще возвращался к жестокой мысли: он не может, не имеет права занимать свой пост; вот выйдет из госпиталя и подаст рапорт — он уже обдумывал, что и как напишет, как изложит свои доводы. Главное, передать свое глубокое в том убеждение, свою искренность, не сфальшивить в словах, чтоб те, кто будет читать его рапорт, только так бы и поняли его, не уловили бы ни малейшего оттенка позы, обиды или бог знает еще чего: он чист и искренен перед совестью и открыто, не прячась, встречает свою катастрофу… Он знал, что ему, начальнику политотдела, придется ответ держать еще и на партийном собрании перед коммунистами, предстать перед ними впервые в роли ответчика, и, сознавая, что нелегко и непросто будет это сделать, мысленно с болью и трепетом готовился и к этому…