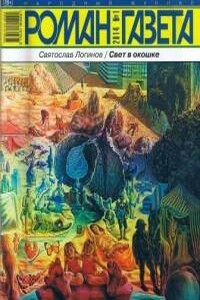Битва | страница 79
— А вы знаете, что мой сын виноват? Что он… преступник — уже знаете?
Усмешка, словно снисходительно извинявшая наивный вопрос Моренова, тронула губы корреспондента, красневшие в обрамлении густой рыжеватой поросли.
— Отрицать — еще не значит говорить правду. Элементарно! Ваш сын отрицает участие в убийстве девушки, но его, так сказать, товарищи, коллеги, единодушно показывают на него. Я имел встречу со всеми в КПЗ. И со следователем. Так что…
— Ну что ж, знакомьтесь, — сказал Моренов с внезапно вернувшимся к нему равнодушием; за эти дни усталости, переживаний он замечал, как иногда на него находило полное равнодушие и он безучастно воспринимал то, что в иное бы время вызвало у него пылкую, бурную реакцию. — Я его отец. Можете задавать вопросы, выяснять, чем живу-дышу… Пожалуйста.
Невольно подумал: «Еще одно испей! Только бы не терзал Галину Григорьевну — без того от слез не высыхает, постарела…» И сказал по-прежнему ровно, негромко:
— Я к вашим услугам, со мной что угодно… А вот жену мою, мать Андрея, пощадите. Я солдат, больше половины жизни отдал армии, был на войне — выдержу, а она женщина…
Половинкин опять усмехнулся, качнул головой, будто в крайнем удивлении, протянул:
— Солдат, н-да… Вы не просто солдат — полковник! А это уже другой коленкор — и материальный, и моральный! Возможности для молодого человека… Вот и хотел вас спросить, — глаза в красных, слезящихся веках остановились на Моренове, — спросить прямо, откровенно: не в этом ли причина?
Отвернувшись к окну, не видя собеседника, Моренов, однако, чувствовал на себе юркий, настороженный взгляд — раздражение всплеснулось в Моренове:
— Нахожу, что не в этом… А в чем — мне трудно сейчас ответить, возможно, моя вина: проглядел. К армии же у вас предвзятое отношение. Функции армии сложны и ответственны, а офицеры — костяк армии, ее ум и совесть. Да, совесть…
Моренов автоматически повторил это слово, не сознавая еще, что оно его больно уколет, и действительно, укол этот, будто иглой в сердце, он почувствовал и замолк, подумав о том, что угнетало его все эти дни и что, ясное и понятное по горькому тяжелому смыслу происшедшего, не обретало вот такой поразившей его в эту минуту окраски: «Ты как раз по критерию совести теперь уже не можешь оставаться в ней…» Секунду пораженный этим выводом, он как бы отрешился от всего, ему показалось даже, что он один в кабинете: не было никого, не было корреспондента — лишь он, Моренов, сам с собой, со своим тяжелым горем… Но Половинкин вывел его из этого состояния — внезапно рассмеялся, показав прокуренные, с застарелой желтизной, зубы, от удовольствия, должно быть, дернулся за столом, раскидывая полы пиджака из плотной материи и забрасывая ногу на ногу: острое колено выперлось, натянув штанину джинсов-дудочек.