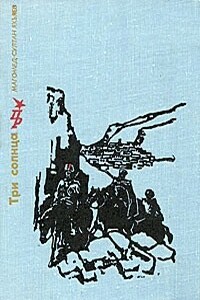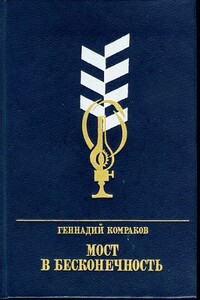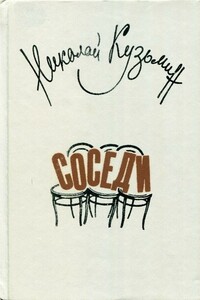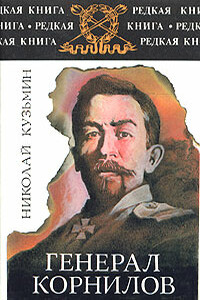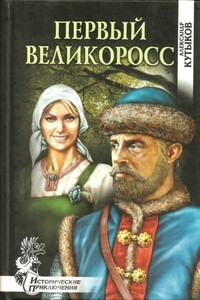Меч и плуг | страница 49
— Жалко, — Григорий Иванович побарабанил пальцами по рукоятке шашки, — жалко — не дождался он нас!
— Его нету, другие есть, — смирно, прокашливаясь после долгого молчания, подал голос Милованов. Григорий Иванович даже вздрогнул: совсем забыл, что с этой руки у него тоже человек сидит.
По одному тому, как подобрались и стали слушать мужики, комбриг понял, что Милованов в Шевыревке но последний человек. Выдавала его и уверенная хозяйская повадка: этот человек привык, чтобы, когда он говорит, другие замолкали.
— Про Фильку — что… — Милованов махнул рукой. — Они с попом и без того от самогону бы сгорели… В Дворянщине у нас что было! Привезли один день ситец. Ну, ситец! Голышом все ходим… Так что вы думаете? Равноправие, говорят, — значит, всем будем давать поровну, чтоб никому не обидно. Ну, тоже вроде ладно. И ведь головы же садовые, стали на сам деле резать! На всех-то помене аршина и досталось, По-хозяйски это? Да я ладошкой больше прикрою, чем этим аршином. Нс издевательство это над мужиком?
Пристальный, обнаженный взгляд Милованова жадно караулил любую перемену на лице комбрига.
— Правильно, — согласился Григорий Иванович. — Это — вредительство.
— Ага. Теперь дальше гляди. С хлебом. Что ни день, то указ: сдавай то, сдавай другое. Заборы от указов ломятся. «Да мы же только что сдавали!» — «Не разговаривай!» И — гребут. И гребут-то как: с оркестром! Бабы, ребятишки воют, а у них музыка наяривает… Ну? Это власть? В силах это мужик вынести?
Говорил Милованов, как камнем бил. И заметно было — ждал: ну дрогни, хоть сморгни, ведь крыть-то нечем!
Пальцем комбриг полез за ворот гимнастерки, потянул. Минута прошла в молчании. Неприятная минута.
— Это произвол, — обронил наконец Григорий Иванович. — За это спросят. Спросим!
Вот-вот! В усмешке Милованова просквозило нескрываемое торжество.
— Кто спрашивать-то будет? Свой же и спросит. Знаем мы.
— Плохо знаешь! — отрезал Котовский. — У нас спрашивают так, что… В общем, не пожелаю ни тебе, ни кому другому!
Милованов глумливо промолчал, всем видом показывая: дескать, говори, говори… Григории Иванович искоса взглянул на него, но ничего не сказал.
Жалея, что нарушился такой хороший, задушевный разговор, Милкин с сочувствием проговорил:
— Оно, конечно, за каждым разве углядишь? Москва далеко. Ленин-то, говорят, за голову схватился, когда узнал, что сделали с мужиком, с разверсткой этой самой…
Нет, такой помощи комбриг не хотел.
— Не мели, не мели, — остановил он Милкина. — За голову… За голову тот хватается, кто сдуру наломает. А с разверсткой все по плану было, сознательно пошли. Да, по плану! — с раздражением повысил он голос, заметив, как изумленно вылупились мужики. — И знали, что которые из вас за топоры возьмутся. Все знали! Ну а что делать, по-вашему? В городах люди мрут. Или ты думаешь, что Ленин как мачеха какая? Одним, значит, все, а другим ничего? У вас тут самогон гонят, а там ребятишек на кладбище таскать не успевают. Ему надо всех накормить, за всех душа болит. Вот и пошли на разверстку… Тоже — плачешь, а идешь.