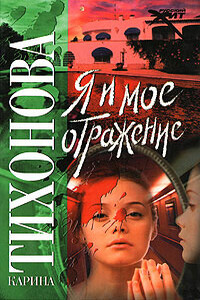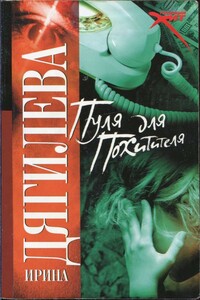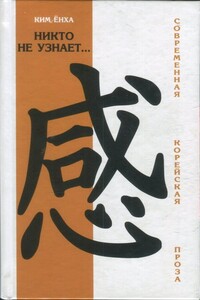Кандагарский излом | страница 78
Я свыкалась с новой жизнью, как с новым именем. Та глупая девчонка, патриотка-мечтательница, совершившая подлость, убивая любимого и потерявшая всех и всё — мертва. От нее не осталось ни следа — лишь память и совесть, внутренние судьи и палачи. Но если нет Олеси, то некого и судить, а если есть, то тем более незачем судить, потому что ей незачем жить…
Я решила закопать ее и похоронить, как похоронили ту, что взяла на себя ее имя. Потом увидеться с родными Изабеллы, отдать заработанное дочерью, порвать военный билет, вычеркнув не только из памяти — из жизни эти месяцы, исправить паспорт и уехать туда, где никто меня не знает.
К середине октября меня комиссовали вчистую.
В Кабуле в ожидании оформления документов и борта в Союз я сидела на пересылке и совсем не удивлялась тому, что всё заканчивается там, где началось. Мне не было страшно, что меня узнают те, кто отправил нас с Викой в бригаду Свиридова — мне было все равно. Может, поэтому и не узнали? А может, я до неузнаваемости изменилась? Этот вопрос меня тоже не занимал. Я сидела, опираясь на палочку, которую подарили мне ребята из госпиталя, и смотрела на двух новоприбывших девчонок, вернее, девушек и женщин. Одной было лет тридцать, другой двадцать три максимум. Они бросали на меня украдкой любопытствующие взгляды и, казалось, завидовали бравой вольнонаемной, которая умудрилась получить ранение.
А я на их месте видела себя с Викой, наивных девчонок, приехавших на войну, не зная по сути, что это такое. Книжки, фильмы искусно культивировали в нас патриотизм, взывая к долгу, чести и прочим, очень нужным человеку вещам, но они скрывали правду о войне. На ней подвиг был нормой, и совершал его не только тот, кто бросался на амбразуру, но и тот, кто сохранил себя, пройдя сквозь грязь, боль, цинизм, повседневные трудности и опасности. Кто не сломался, как я, не омертвел и не очерствел.
Женщины тихонько переговаривались, обсуждая повышенное внимание мужчин к их персонам, а я думала, что в Афган прибыли «чекистки»[1] и «жены»[2], но вряд ли «интернационалистки»[3].
Мне, как той женщине, отправленной в Союз за аморалку, многое хотелось им рассказать, но у меня не было ни сил, ни желания открывать рот, произносить пустые для них слова, вдаваться в подробности, убеждать в том, чего они не знают, а поэтому не поймут и не поверят. У каждого свой путь к эшафоту, свои грабли, свои шишки.
Ко мне подошел молоденький лейтенант и, отдав честь, подал документы.