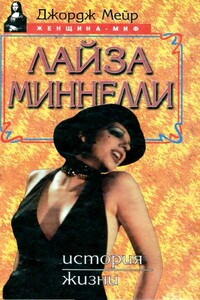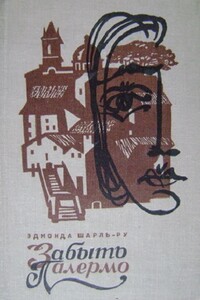Непостижимая Шанель | страница 94
Было слышно, как она обличала актеров и автора этих пошлых острот: «Нет, но какая гадость!.. Что за вирши… Какой во всем этом дурной вкус! Сколько претензий! Ужасная эпоха! И этот французский ура-патриотизм, какая глупость! Поведение, достойное консьержа».
В самые патетические моменты она цедила сквозь зубы оскорбительные замечания. Она метала громы и молнии.
Выражением какого протеста была эта враждебность, признанием в каком душевном смятении? Против кого были направлены ее насмешки? Против Ростана? Если только не против самой себя и против прошлого, груз которого был особенно велик, ибо теперь она лучше понимала его незначительность. Мулен, патриотический репертуар кафешантанов, «красноштанничество»…
Может, она не могла себе простить, что была заложницей вкусов и развлечений касты, которая сперва открыла ее, а затем сама же сделала существом второго сорта? Жалела ли она как о потерянном времени о годах, проведенных в Руайо? Она слишком долго довольствовалась тем, что ездила на лошади, участвовала в фарсах Этьенна, в его поездках, в праздношатании по местам столь банальным, что, казалось, они даже не были частью города, в котором находились. В По маленькая меблированная квартирка над «Старой Англией», где после пяти часов собирались все спортсмены, но куда, как и в Сувиньи, как и в Руайо, никогда не приходили их жены… А в Ницце, а в Виши и Довиле? Они жили в холостяцких квартирах, всегда обставленных так похоже, что по утрам, просыпаясь, она спрашивала себя: «Где я?»
Из потока ее гневных обвинений мы можем выделить одно: «Ужасная эпоха!»
Разумеется, она лгала, утверждая, что думала так всегда. На самом деле подобная оценка есть плод более поздней эволюции. Но это ничуть не умаляло искренности, с которой она возмущалась.
Ужасной была эпоха, когда из страха, что ее сочтут «распущенной», Габриэль вынуждена была следовать моде, которая была подражанием, перегруженностью, принуждением. Ужасной была эпоха, заставлявшая ее носить жесткий, словно оковы, корсет. Ужасными были люди, во власти которых она находилась и которые помешали ей одной из первых созерцать сияющую зарю нового века и вдохновлять музыкантов, художников, поэтов.
Не она первой поняла их, не она первой их полюбила.
Это сделали другие, не она…
Например, Мися, с которой она вскоре познакомится.
Что читала Мися Натансон[18] в ту пору, когда Габриэль, живя затворницей в доме, где не было книг, поглощала халтуру господина Декурселя, самого посредственного автора романов с продолжением того времени? Мися знакомилась с творчеством писателей и критиков из окружения своего мужа: Мардрю, переводившего «Тысячу и одну ночь», Андре Жида, Леона Блюма, молодого Пруста, опубликовавшего тогда только «Утехи и дни». И пока Габриэль аплодировала во время парадов, которые так любили Этьенн и его друзья, Мися читала в «Ревю бланш» Толстого