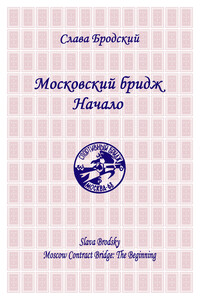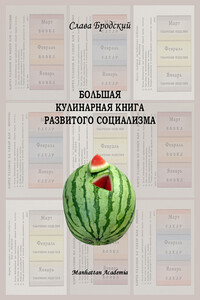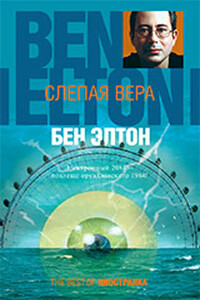Страницы Миллбурнского клуба, 2 | страница 36
Однако на пути создания нормативного языка возникает одна проблема. Она заключается в том, что это так только предполагается, что наши академики работают над описанием и обобщением языков всех индивидуумов кластера. На самом деле, как легко понять, каждый из академиков принимает во внимание только свой собственный индивидуальный язык.
По этому поводу один читатель моих заметок позвонил мне и сказал, что я не совсем прав. Потому что, мол, академики перед тем, как что-то такое придумать, полжизни потратили на то, чтобы изучить кучу всяких особенностей языков индивидуумов, относящихся ко всем возможным группам. Не может, мол, академик делать выводы только на основании своего собственного языка. На то, мол, он и академик.
Конечно же этот читатель был тысячу раз прав. И я с ним абсолютно и полностью согласен. Я имею в виду, что согласен с этим читателем в том, что академики изучают много всякого, прежде чем делают какие-то выводы. Но в то же время этот читатель был в чем-то и неправ. И я отсылаю его в конец первого раздела, где я пояснял, что язык индивидуума включает также понимание языка других индивидуумов и много другого прочего. Конечно, академики отличаются от простых смертных тем, что языком других людей интересуются не по воле жизненных обстоятельств, а по долгу службы. Они приобретают сведения о языке других людей примерно таким же образом, как многие учат иностранные языки. Об обширных познаниях академика в области изучения языков каких-то групп людей можно говорить на том же основании, на котором мы говорим о знаниях какого-нибудь способного молодого человека, изучившего в колледже шесть иностранных языков. А ведь даже для того, чтобы знать хотя бы только один немецкий язык примерно так же, как знает его какой-нибудь винодел в маленьком городке на Рейне, нашему студенту нужно было бы прожить свою жизнь жизнью этого винодела. И нашему академику, чтобы знать русский язык примерно так же, как его знает, скажем, человек, только что вышедший из заключения, где он провел пятнадцать лет, нужно было бы провести те же пятнадцать лет в заключении. Боюсь только, что тогда наш академик, наверное, уже не был бы академиком.
Однажды мне возразили, сказав, что, мол, не такая уж это большая беда, если академики не очень-то в курсе всякого там блатного, тюремного или лагерного жаргона. И я немедленно согласился с этим. Потому что я всегда соглашаюсь, когда мне возражают корректно. Действительно, это не только не беда, но это большое счастье, что какой-то академик не в курсе лагерного жаргона. Я бы даже согласился, что, возможно, пример мой не очень удачен. И был бы готов этот пример заменить каким-то другим. Но это только в том случае, если бы я не писал эти мои заметки на русском языке в самом начале 21 века и если бы я не приводил так много примеров, относящихся к русскому языку. А для русского языка лагерный пример – это для нынешнего момента самый удачный пример. Потому что за последние сто лет лагерная группа среди всех русскоговорящих была одной из самых многочисленных.