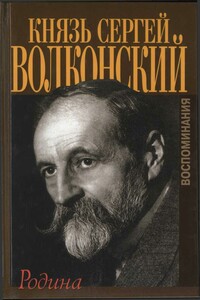Мои воспоминания. Часть 1 | страница 41
Не в бездушных вещах было то новое, что они дали, а прежде всего в массовых сценах. Поразительное впечатление новизны в этих картинах народного движения; шумливая толпа военных лагерей Валленштейна; бурная толпа римского форума перед трупом Цезаря; склоняющаяся, скользящая придворная толпа королевы Елизаветы. Самое удивительное в этой толпе было не то, что она умела давать все крайности, от высшего напряжения до последнего ослабления или наоборот, а то, что нельзя было уловить ступеней этих переходов; тут не было толчков, это была текучесть, непрерывность, как сама жизнь. Никакие «народные сцены», которые я впоследствии видел, не могли с этим сравниться; и не думаю, чтобы тут играла роль новизна. Тут был, очевидно, принцип, строгое соблюдение в распределении нарастаний и ослаблений. Прием работы был такой. Главный режиссер (кажется, его звали Кронек, может быть, ошибаюсь, — это было так давно…) имел своих, им вымуштрованных для данной сцены уполномоченных; эти брали себе каждый в свою выучку группу статистов и показывали им, что в каждый данный момент они должны делать, причем им предписывалось во время представления следить за своим вожаком, делать то, что будет делать он. На спектакле все эти группы распылялись, составляющие их статисты размещались в разных концах сцены. Так достигалась в разнообразии точность и, при напряженности внимания, определенность и одновременность.
Самое восхитительное в этом отношении из всего, что я видел, это римский форум в «Юлии Цезаре» — речи Брута и Марка Антония, то есть жизнь толпы во время этих речей. В смысле «реагирования» толпы я никогда после не видал лучшего, даже ничего равного. Нашумевшие впоследствии народные сцены в «Царе Эдипе» у Рейнгардта ничто в сравнении с толпою римских граждан у мейнингенцев; им так же далеко до них, как далеко стаду до искусства. Надо сказать, что и обе речи были великолепно произнесены: Брутом был Барнай, Марком Антонием — не помню кто.
Кроме прекрасного принципа нарастания и ослаблений в отдельных сценах у мейнингенцев отлично было проведено нарастание всей пьесы, то есть распределение нарастаний по актам. Это умение заставить зрителя при падении занавеса жить вопросом, что же дальше, умение насытить антракт ожиданием, это, конечно, важнейшая заслуга режиссера по отношению к пьесе, как ценнейшая заслуга актера по отношению к своей роли.
О Барнае скажу, что это было само благородство. Помню его в особенности в роли Валленштейна; низкие, глубокие тона, чудная речь, восхитительная осанка. Он давал образ настоящего главнокомандующего, за ним ощущался весь лагерь, все войско, он являлся носителем исторической ответственности; и при этом высоком впечатлении — какая простота. Знаменательны последние слова Валленштейна, по ним можно судить актера. Он уходит спать, а мы, зрители, знаем, что его, сонного, постановлено убить; уходя со сцены, он говорит окружающим, что он намерен проспать долго. Все актеры старого, напыщенного типа говорят эти слова таким торжественным тоном, как будто хотят сказать: «Я иду спать, но на самом деле перехожу в загробную жизнь». Барнай говорил их так, как будто хотел сказать: «Иду спать, устал, пожалуйста, не будите меня».