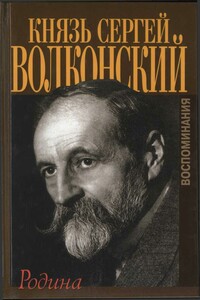Мои воспоминания. Часть 1 | страница 42
К сожалению, простота барнаевская не находит последователей в Германии: трагедия, костюм, стихи имеют несчастное свойство поднимать немецкого актера на ходули. Только большие таланты понимают величие простоты; но больших талантов мало; вот почему говорю, что судить о театре надо не по талантам, а по не-талантам. Театр так же мало ответствен за талант, как почва за свалившийся в нее аэролит; только в не-таланте увидите вы, действует ли в нем воспитание и традиция или он предоставлен самому себе. В общем скажу, что по ясности поставленных себе задач, по искренности отношения к ним и по добросовестности выполнения их мейнингенцы, конечно, одно из самых почтенных явлений в истории театра.
Этот характер «почтенности», увы, отсутствует в последующих немецких театральных новшествах; больше всего отсутствует у Рейнгардта; его театр так криклив, так в нем назойлив режиссер; в нем все время чувствуется выдумщик, и этот выдумщик иногда поражает, иногда тешит, но часто — докучает. Рейнгардт — это первообраз того режиссера-изобретателя, который расплодился везде за последнее время, а в особенности там, где нет актера. Где актер есть, как за границей, там театр все же является сотрудничеством; режиссер признает, что имеет дело с равными себе величинами; наконец, там существует уважение к автору, у нас же, где актера нет, — ибо что такое те несколько имен, которые можно, с оговорками, назвать?.. Что это, не только на всю Россию, но даже на всю Москву? Так у нас и эта последняя узда сброшена. Мейерхольд ставит Верхарна с собственными вставками о советской власти, с пением «Интернационала»; он готовит «Гамлета», уснащенного его отсебятинами, в которых выпады против королевской власти. Кстати, рассказывала мне одна актриса. Репетировали «Саломею». Мейерхольд говорит актрисе: «Понимаете, вы должны играть Саломею так, с такою же ненавистью, как если бы вы играли Алису Гессенскую, жену Николая II»… Не в политике дело, конечно, но где тут художественные руководящие указания?
Вернемся к чему-нибудь более «почтенному»; или скажем даже просто-напросто: вернемся к театру. Всякий раз, что заговариваю о русской сцене, испытываю такое чувство, что я ухожу от театра. Поймите же, что театра в России нет. Есть люди, о театре говорящие и пишущие, в театре служащие, есть заседания, протоколы, есть издания, афиши, есть здания, публика, но все это шумиха вокруг пустого места — театра нет. И хочется вон от этой пустоты, от этого неуважения к искусству, хочется укрыться под сень того, что я обозначаю словом «почтенное». Вернемся же с шумливой поверхности театральной современности в тихую глубь «доброго старого времени». Не сочтите меня за ретрограда; я совсем не ретроград. Ведь любить прошлое не значит не желать будущего, это только значит ненавидеть то, что в настоящем есть оскорбительного. И, наконец, другой вопрос — в какое прошлое уходить. По-моему, кто любит Баха, много новее, чем тот, кто любит после него жившего Мендельсона; кто любит Палестрину, художественно моложе, нежели тот, кто любит недавнего Беллини. Пушкин вечно свеж, а Надсон увядший цветок. И сколько же на памяти людской увяло писателей, в то время как Гомер, Софокл, Вергилий, Сервантес переживают века… Что же? Ретроград тот, кто их боготворит? Вернемся же назад, и не так уж далеко.