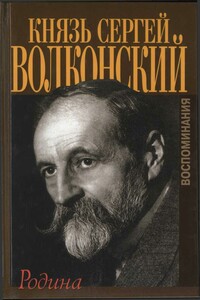Мои воспоминания. Часть 1 | страница 40
О Рейнгардте опять-таки подробно писал все в той же книге. Здесь упомяну о замечательном его изобретении. Ему удалось осуществить самое, казалось бы, неосуществимое: он дал на сцене небо, глубину воздуха, бесконечность дали. В сущности, все что хотите можно изобразить на сцене при некоторой уступчивости воображения; одно до сих пор было невозможно — изобразить ничто, le neant, das Nichts. И этого достиг Рейнгардт. Незабываемо впечатление, когда под свист ветра поднимается занавес над первой картиной «Гамлета». Эта терраса Эльсинорского замка, обыкновенно окруженная стенами и бойницами, рисующимися на фоне задней декорации, которая изображает дальние части замка, деревья, горы, ночное небо, — здесь окаймлена низким парапетом, вырезывающимся на фоне, который ничего не изображает: это просто ночь, бездонная лунная ночь, небесная твердь; это тот лунный свет, на который смотреть холодно, который все собой заливает, который съедает далекие, высокие звезды. Этот эффект дали небесной повторяется и при дневном свете и при закате солнца.
Самое удивительное, прямо невероятное зрелище — когда перед погруженным в полный мрак театральным залом сцена представляет одну лишь черную бездну ночного неба, усеянного звездами, и особый, придуманный Рейнгардтом прибор наполняет воздух пронзительным сверлением и свистом ветра. Рейнгардтовское устройство состоит из гладкой полукруглой стены, которая, загибаясь кверху полукуполом, представляет собой как бы огромную кибитку, обращенную вогнутой стороной к рампе; внутренняя ее поверхность белая, алебастровая, и лунный свет скользит по ней в мягкой непрерывности; в разных местах проделаны отверстия разных величин, за которыми электрические лампочки дают впечатление звезд большей или меньшей силы, смотря по степени мрака на сцене. Легко себе представить, каким удивительным средством является это изобретение при изображении, например, горных вершин, парящих над воздушной бездной. Представьте себе последнюю картину «Валькирии», поднятую на такую горную вершину, и над ней вместо обычного «боскета» безбрежье воздушного океана… Вот все, что скажу о тогдашних своих берлинских впечатлениях, а сейчас еще несколько слов о немецком театре.
В первый раз я увидел немцев на сцене, когда приезжала в Петербург труппа мейнингенцев. Она привозила Шиллера и Шекспира; в их труппе была такая выдающаяся сила, как Барнай. О значении мейнингенцев в истории театра не стоит говорить; их роль слишком хорошо известна, их имя стало нарицательным: ставить пьесу «по-мейнингенски» — это сразу рисует намерение. Скажу только, что после той заведомой лжи, которой довольствовалась бутафория тогдашнего театра, это настоящее, подлинное, что они показали: настоящие ржавые мечи, настоящие тяжелые деревянные двери с настоящими щелкающими замками, настоящая посуда, звон хрустальных кубков и серебряных ковшей, — было так ново, так пышно, жизненно насыщено, что именно в силу этой самой реальности давало впечатление иного мира. Однако не в этой вещественности была их сила; не правы те, кто говорят, что мейнингенцы выезжали на обстановке; нет, человек был сильнее бутафории, и весь этот «практикабль» был пронизан духом; люди, в нем двигавшиеся, к нему прикасавшиеся, были действительно живые люди, за очень немногими исключениями.