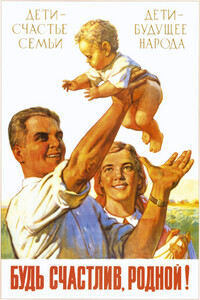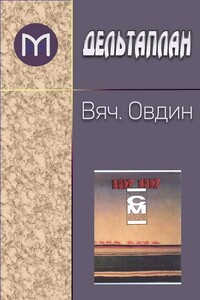Счастье | страница 81
Владимир Набоков, автор блестящей книги о Гоголе, не особенно доверял своему герою. Не доверял он и его рассказам о всеобъемлющем влиянии Пушкина. При этом, как убежденный суверенный модернист, Набоков явно не мог понять, что, собственно, побуждало Гоголя к подобным утверждениям: «По какой-то причине (может быть, от ненормальной боязни всякой ответственности) Гоголь старался всех убедить, будто до 1837 года, то есть до смерти Пушкина, все, что он написал, было сделано под влиянием поэта и по его подсказке». (Заметим, что Гоголь утверждал даже большее: под влиянием Пушкина им написано вообще все лучшее, в том числе и то, что появилось после смерти Пушкина.) Позднейшие биографы — вскормленные уже на постмодернистских представлениях — усмотрели в заявлениях Гоголя не страх ответственности, а хитрый расчет: преувеличивая близость своих отношений с Пушкиным, Гоголь-де закреплял свое положение во влиятельном кружке писателей, ловко устраивал свою литературную и житейскую карьеру.
Оба объяснения во всяком случае неполны: о «завещания Пушкина» Гоголь рассказывал и тем, у кого подобные рассказы вызывали раздражение, — например, Сергею Аксакову, считавшему, что Пушкин не понимал истинного значения и масштабов гения Гоголя. Кроме того, Гоголь любил распространяться об этом уже на вершинах своей славы, когда указание на то, сколь многим он обязан Пушкину, скорее должно было умалять масштабы его собственных заслуг...
Истоки пушкинского мифа Гоголя надо искать в его культурном воспитании — одновременно архаическом и романтическом. Вынесенное из домашней атмосферы архаическое представление о необходимости «патронажа» совместилось с романтическим представлением о Мастере-Учителе, литературном божестве. На роль литературного божества Гоголь избрал Пушкина — отчасти в силу тонкой интуиции, отчасти, может быть, в силу провинциальности литературных вкусов (в Нежине Пушкин считался наимоднейшим автором, меж тем как в Петербурге его слава шла на убыль).
Пушкин — в соответствии с новейшим романтическим каноном — виделся Гоголю как бы в двойном измерении («Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...»). Пушкин-человек — даровит, исключительно ярок, но не свободен от множества земных недостатков (Гоголь охотно рассказывал историю о своем первом визите к Пушкину: «Верно всю ночь работал? — „Как же, работал... в картишки играл!“»). Пушкин-поэт — иное дело. Свои восторженные представления о Пушкине как поэтическом гении Гоголь выразил в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина», опубликованной еще при жизни героя: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». (Интересно вообразить, как отреагировал живой Пушкин на эту патетику. Был польщен? Смутился? Растрогался? Почему-то кажется, что расхохотался...)