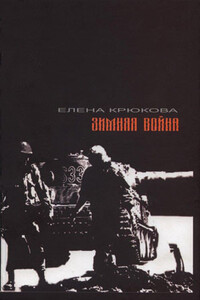Тибетское Евангелие | страница 64
— Зачем тебя? — неслышно спросил я.
— За все хорошее, — так же беззвучно ответил старец. — Меня сюда привезли прямо из лагеря. Я в лагере отсидел десять лет. Около Братска. Знаешь Братскую ГЭС? Гиблые, паря, места. Я выжил как-то, видишь. Много наших перемерло. Зимой — померзло. Сидел ни за что. Другой убил, а на меня показали. И — не доказали, что не я. Денег не было на адвоката. А за мной грешки тогда водились. Я против них… ну, сам понимаешь… пошел. Я, это… писатель. Писал то, что… им… не в нос было. Вот они и…
Голос святого старика сошел на нет. Он говорил, шлепал губами, а звука я не слышал. Будто немое кино. Опять я внутри себя услышал музыку. И опять орган, что за колдовство! Старый зэк тихо двигал рукой возле лица — так, будто невидимую трубку курил. И я уже видел эту дымящую трубку, из черного вишневого дерева, и табак чуял — крепкий, болгарский тютюн.
И, однако, не слыша голоса, я все понимал.
— Да, да, брат, говори…
И молча рассказывал старик, а я молча слушал. И восставали красные сосновые стволы и черные пихты в безумной тайге. И звенели, лютуя, морозы. И лопались стекла. И свинцом стыл воздух в глубоком ведре карцера. И ветер, сильный бродяга ветер качал, раскачивал пихты и ели, кедры и лиственницы, и сигали с ветки на ветку соболя, и рычал серый царь волк, и гнался ветер по пятам за таежным слепым пожаром, и обливали водой на морозе мужика, что провинился, матом покрыл вертухая, и стучали ложками о миски зэки в столовке: мяса давай! мяса! мяса! — а сами они, все до единого, были — дешевое, дармовое мясо страны, рабское, с костями, с ребрами, что не прожуешь, с черепами, что в зубах не перемелешь, мясо великой страны, и кто выжил, а кто умер, разве теперь сосчитать? На больничной койке. На лесоповале под падающим деревом. В ледяном карцере. При побеге, и пулю — в спину… с вышки дозорной, часовой, сука, метко стреляет…
Беззвучный рассказ закончился. Я шумно выдохнул.
Старик был старше меня, и я ему, должно быть, молодым казался, потому что он назвал меня: сынок.
— Ты, сынок, вот что. Ты все отрицай. Больше молчи. Говори два слова. Веди себя тихо. Отсюда обратного хода нет. Эти места, дурки, брат, так устроены, что не сможешь, не сможешь…
Толстая санитарка, снежная баба, всунулась краем дородного сдобного тела в дверь палаты и возопила:
— Обе-е-е-ед! Миски-ложки с собо-о-о-ой!
Старец мой тяжело, страдально кряхтя, поднялся с койки, а спина у него так и не разогнулась. Так, скрюченный буквой «Г», он и побрел в коридор, где накрыты были нищенские столы перед телевизором, что давно не работал, и фикусом, что давно засох в старой кадке, — есть. Еду давали. Значит, жизнь еще длилась, шла.