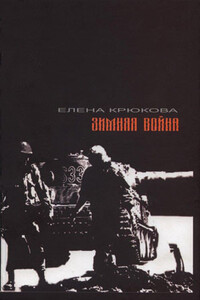Тибетское Евангелие | страница 102
Когда ей исполнилось четырнадцать лет, а она сама никогда не знала, лет ей сколько, она убежала из детского дома. Перед Новым годом было дело. Снегу навалило — город смиренно лежал в белой могиле. Выбежала на крыльцо, вздернула руку: остановилась машина, бедная и обсиженная птичками, не иномарка. Манька весело хлопнула дверцей. «Вези куда хошь! Твоя! Только мани-мани дай потом, да?» Мужик за рулем облизнул губы. Поглядел на вывеску: «ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 3». Чо, драпанула, мокро— щелка, подмигнул нахально. А то, выпятила Манька тощую груденку. Мы такие!
«Ну давай… попытаем щастья… Жена к теще за черемшой уехала…»
Пока ехали к мужику на квартиру — пела частушки, высовывая голую голову из окрытого окна машинешки:
Мужик крутил руль, кусал губы, ржал как конь, покрывался холодным потом: малолетка, срок впаяют! А губки пухленькие. И, может, еще целочка. А корчит из себя опытную. Маленькая… голенькая… у-у-у-ух…
А Манька шпарила дальше — уйму частушек она знала, еще от бабки, да от подружек детдомовских, да от воспитательш, когда те надерутся на кухне самогону, отплясывают и голосят так, что крыша надвое раскалывается:
«Ну ты, малявка! Осторожней… на поворотах!..» — играл глазами мужик, катал под кожей желваки. Манька навалилась на него грудью, пыталась выхватить руль. «Дай поводить… ты, не жмоться!.. я тоже умею… я хочу!..»
Машинешка врезалась в фонарный столб. Мужика вытащили еле-еле — так завязли руки-ноги в железной каше. Маньке не досталось ни царапины. Она сняла с мужика теплую куртку, шапку, всунула ноги в его теплые ботинки, выбралась из машины еще до того, как к ней, вопя, свистя и махая руками, полетели мохнатые зимние бабочки-люди. В этом одеянии она, загребая снег ногами, добралась до железнодорожного вокзала — да так и осела тут, стала тут жить.
Ее сначала гоняли. Потом к ней привыкли. Потом ее били. Потом над ней смеялись. Потом без нее скучно стало: где наша Манька, хулиганка-завлеканька?! Потом перестали замечать.
Потом смотрели сквозь нее, как сквозь тусклую, грязную линзу старых очков.
И что? О чем Манька думала, засыпая на вокзальной лавке? О том, что жизнь идет и пройдет? Так у всех пройдет. О том, что завтра надо жрать, а добычи сегодня не пойма— лось на бабский крючок? Ничего, поголодает, а рыбка завтра сама приплывет.