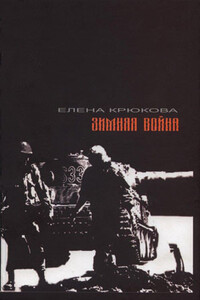Тибетское Евангелие | страница 101
А бабка мелко тряслась, и гладила высохшей рукой драп мертвого пальто, и молилась, и не вытирала мелких жемчужных, живых, как рыбки, слезок.
Маньку привезли в детский дом. Она потом узнала, что этот дом так зовут — Детский; а сперва ей показалось — это тюрьма, даже решетки на окошках. В огромном зале стоял длинный стол, накрытый старой серой скатертью; на стол угрюмые толстые тетки швыряли тарелки с супом, со вторым, да так ловко швыряли, что тарелки не разбивались.
Дети ловили тарелки. Это был злой здешний цирк. Кому— то не доставалось фаянсовой тарелки, а бросали железную миску. «Вкусная кашка, еще!» — кричал маленький, меньше Маньки, мальчик с заячьей губой. Манька сидела молча, не ела. Ложка лежала рядом с тарелкой, а она не ела.
«У, вилкой проткну! Лопай!» — хотела пошутить раздатчица. Взяла вилку и ткнула Маньке в лицо. Манька неудачно дернулась и напоролась щекой на зубья вилки. Врач зашивал рану в травмпункте, ругался так, что Манька краснела: она много ругани слыхала, а такой еще не знала.
В детдоме Манька пробовала сочинять стихи. Однажды сидела на кровати и повторяла про себя: «Стоит в Сибири детский дом на мерзлоте железной… На мерзлоте желез ной… на мерзлоте железной…» Дальше первой строчки дело не пошло. А жаль. Она хотела, чтобы на ее стихи написали песню. И громко распевала бы в телевизоре красивая знаменитая певица с рыжей, как у льва, дикой гривой.
Потихоньку она научилась ловить презрительно прыгающие по столу миски; и есть научилась невкусную еду — водянистый гороховый суп, тухлые котлетки с мышиным рисом. Она учила детей нехорошим словам. Хохотала громче всех, и воспитательши ее невзлюбили.
Однажды ее заволок в детдомовскую кладовку ушастый наглый парень, года на три он был старше Маньки. Рот ей заткнул носовым платком. Манька извивалась, как червяк, а парень ломал ей руки и кряхтел: «Ты! Не ори! Хуже будет». Хуже того, что было, Манька не испытывала никогда.
Она долго плакала ночью на своей кроватке с панцирной сеткой в огромной казенной спальне, засунув голову под подушку, и все повторяла: «Я тебя убью, гад… Я тебя убью…» Это тоже были слова песни, и у нее тоже не было продолжения, хоть тресни.
Никого не убила Манька. Никого не искалечила. Она сама приводила в кладовку мальчишек, сама стаскивала с них портки. Когда разврат обнаружился, детдомовские тетки встали на дыбы. «Изъять! Изолировать!» В больницу Маньку не взяли — признали психически здоровой. Гинеколог осмотрел внимательно. Манька лежала, растопырив тощие ножонки, как дохлый кузнечик, в серебряном жутком кресле, и думала отчаянно: захочу, и этого, доктора гребаного, тоже в кладовку затащу.