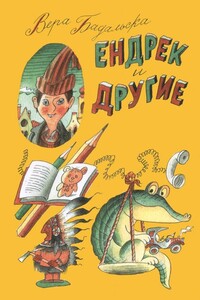Из Гощи гость | страница 4
Но Онисифор спал непробудно, вечным сном; он не алкал и не жаждал, и опохмеляться ему было теперь ни к чему. Не добудившись его, мужики погалдели, потараторили, да и поволокли подьячего на двор, к житному амбару напротив княжеского дома.
Зимнее утро медленно натекало на Чертолье[2], расплывалось по заулкам, расходилось по хворостининским дворам меж работных изб и всяких хозяйственных построек. А на снегу возле житницы лежал человек, учитель малолетнего князя Ивана, бывший площадной подьячий Онисифор Злот, за описку в царском титуле отставленный от дела и под окошком писчей избушки битый плетью. Он и вправду был пропойца лютый: даже холщовый свой бумажник и медную чернильницу пропил он давно и промышлял тем, что ходил по боярским дворам, обучая малых ребяток по азбуке рукописной:
С указкой костяной и перышком лебяжьим научил подьячий и способного княжича Ивана читать и писать и даже складывать стихи.
Но что было теперь делать с мертвым Онисифором? Никто этого не знал, как никому не ведомо было, есть ли у Онисифора какие-нибудь родственники в Москве и где жил этот человек, который почти ежедневно приходил на Чертолье к княжичу в комнату, исправно получал из княжеской поварни полагавшийся ему корм и в сумерки снова брел по опустевшей улице неизвестно куда. Но раздумывать тут было нечего: подьячий был мертв, и его взвалили на дровни, покрыли рогожею и повезли прочь со двора. Выбежавший на крыльцо перепуганный княжич увидел, как стегнул вожжою по взъерошенной лошадке Кузёмка-конюх, как дернула она с места и высунулись из-под рогожи ноги Онисифора, обутые в рваные, выгоревшие на солнце и стоптанные по всем московским кабакам сапоги.
прошептал княжич Иван, вспомнив, как Онисифор года три тому назад впервые развернул перед ним свою азбуку, разрисованную усатыми колосками, звериными мордами, человеческими фигурами.
— Аз, буки, веди… — стал твердить, как тогда, княжич, и горячие слезы покатились у него по горевшим от холода щекам.
Уже и ворота закрыли и подворотню вставили, а княжич все не уходил в покои, все глядел в ту сторону, куда повезли Онисифора Злота. О чем плакал молодой княжич? Ему и самому до конца неведома была причина его слез в этот запомнившийся ему морозный день. Но грудь его разрывалась от жалости, непонятной и нестерпимой, ранившей его сердце, точно калёной стрелой.
II. В младенческие дни
Отец княжича Ивана, старый князь Андрей Иванович Хворостинин-Старко, провел всю свою жизнь в государевой службе, на воеводствах да в походах, и княжич Иван вырос под присмотром мамки и самой княгини Алены Васильевны. Но мамка Булгачиха, перекрещенная туркиня, вывезенная когда-то в Русь из завоеванной нами Астрахани, нянчила еще Алену Васильевну. Булгачихе было, наверно, сто лет; голова ее в черном шелковом тюрбане уже еле держалась на сморщенной шее, которая к тому же должна была выносить на себе и великое множество всяких ожерелий — янтарных шариков, бисерных колечек, серебряных цепочек. Старая туркиня если и не засыпала на ходу, то впадала в дремоту уже во всяком случае, как только ей удавалось где-нибудь присесть. Так ее и запомнил князь Иван: на скамейке у ворот или в огороде на пеньке, всегда с головою, не удержавшейся на слабой шее, с подбородком, зарывшимся в шарики и цепочки, с хохлатым тюрбаном, покачивающимся от ветра.