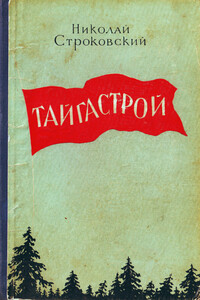Перед рассветом | страница 17
– Не пойду я, Григорий, замуж, – говорит она, и в голосе ее дрожат глухие слезы.
– Что же ты, бобылка, будешь делать?
– А в келью уйду… У нас за Агафошкиными выселками деушки в кельях спасаются… К деушкам уйду…
– В кельях проку тоже мало, – говорит Тартыга, решая, что пора кончать беседу. – Ну, твое дело, – как хочешь…
Он поднимается и отряхивает с пиджака солому. Тоскливое и одинокое растет в душе Василисы… Все происходящее с ней – Тартыга, его внезапное появление и теперь уход – кажется ей каким-то смутным сном, который блеснул на мгновенье и уже пропадает…
– Куда же ты? – спрашивает она Тартыгу.
– Куда?.. В город, – отвечает он. – Пройдусь по холодку выселками, а обогреет солнце – завалюсь в стога, высплюсь…
– На ночь-то глядя, – говорит Василиса и ласково с покорностью заглядывает ему в глаза. – Хоша бы переночевал…
– Нет, пойду, – бесповоротно решает Тартыга. – Который день собираюсь, да все никак не выберусь…
Он оглядывается и поправляет на голове сбитый гречишник.
Василиса отвертывается от него, лезет за пазуху, достает холщовую тряпицу, развязывает и поворачивается снова.
– Ну хоша вот возьми на дорогу.
– Это что?
Тартыга протягивает руку и ощупывает пальцами теплый, пригретый на груди полтинник.
– Не надо!..
– Возьми, пригодится!..
Тартыга, подумав, берет.
Луна плетет вверху голубую вязь. Тартыга сжимает крепко монету. Сладкое ноющее чувство от давно неиспытанной ласки, которую он нашел так неожиданно здесь, в деревне, охватывает его… Дружно придвигаются поля, полынок… И поля ласковые и родные… И кажется, что все это старое, близкое, давно знакомое – и гумно, и солома, и полынок, и Василиса… Только все забытое… И смутно крадется холодная мысль: встретит ли он где-нибудь еще такую ласку? А если и встретит, – не будет ли тосковать о полях, о полынке, о Василисе?.. Может быть, он уже никогда более сюда не вернется?..
Василиса прислоняется к омету и, уткнувшись лицом в рукав, беззвучно плачет…
Тартыга бережливо обнимает ее за стан, дышит в ее щеки горячим и близким дыханием и дрогнувшим любовным голосом говорит:
– Ну, чего ты?.. чего?..Еще не поздно, когда Тартыга возвращается через площадь.
Церковный дом, разделенный на псаломщическую и дьяконскую половины, освещен. У створчатого окна псаломщик разбирает партитуру церковных нот.
Тартыга издали всматривается в его профиль с узко сжатым лбом. Со злостью он наклоняется, шарит рукой по примятому гусиному остролистннку, схватывает булыжник и с размаху бросает в обшитую тесом стену: