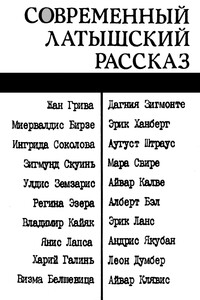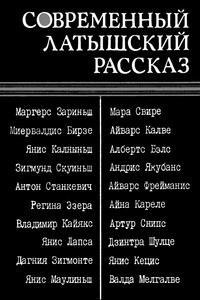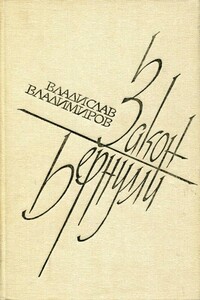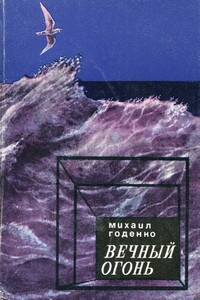Невидимый огонь | страница 59
И тем не менее тихо и темно.
Пусть себе спит…
Но Лелде не спит, она не может заснуть: подушка горячая, как грелка, но только не ровная, резиново-гладкая, а холщовая, волосяная, шерстистая, словно в наволочке из меха или грубой махровой ткани, которая колет лицо. И лицо горит, пылает огнем, и подушку все время надо перевертывать — прохладной стороной кверху, перевертывать снова и снова, и минуту спустя опять и опять, ведь… Она как каравай хлеба, овальная, твердая и шершавая, с растресканной коркой, корявой и колкой, как спекшаяся глина… Подушка полна гороха и гальки, выпирающих сквозь наволочку маленьких кругляшей, которые при малейшем движении хрустят и скрипят, и голова в них уходит глубоко, так что ее не поднять, не оторвать, так что не встать, хотя встать надо — встать и пойти, потому что очень хочется пить, нестерпимо, а вода на кухне, в двадцати шагах, всего двадцати шагах длиною в вечность. А дом полон хождения и шумов, везде стучат, скрипят, тарахтят, хлопают дверями… Кто там ходит? Кому там что нужно? Кто там никак не угомонится?
Зачем так жутко натопили? Во рту сухо, язык липнет к нёбу, и нёбо какое-то не такое, громадное — как свод, как грот в скале, где каждый звук отдается басом, а кашель гулкий как лай: гав-гав… И так это странно, что смех берет. И смех тоже отдается так: гав-гав-гав, отражается от круто изогнутых стен большого свода, как многоголосый собачий лай, как тявканье бегущих собак. Они мчатся сюда, большие и малые. Со стоячими и висячими ушами и вовсе без ушей. Хвостатые и бесхвостые. Голые как люди и заросшие шерстью наподобие ягнят. Черные и белые. Серые и пестрые. Рысят и скачут. Бегут и мчатся сюда с несметной стаей своих щенят, нюхая воздух на ходу мокрыми носами, которых целая уйма, такая масса, что они снуют и летают в воздухе как жуки, как мотыльки. Туче собак нет ни конца ни края. До самого горизонта — сплошная волнистая масса движущихся спин, и катится она прямо сюда. Тысячи, миллионы лап, вдавливаясь в почву своими выступами и выемками, вспарывают ее, взбаламучивают, как водную гладь. Вся земля начинает волнами ходить и раскачиваться как море, дыбиться и метаться как конь, норовящий скинуть седока, и боязно сорваться и улететь кто его знает куда, и надо держаться — держаться, чтобы…
Она падает — и просыпается.
«Что это со мной? — тупо думает она. — Заболела?»
Так уже было однажды в детстве. Засыпая, она летала над самой собой, и это было так странно, так волнующе, когда она, как с парашютом, летала сама над собой, глядя на себя сверху, и в то же время очень, очень мучительно, трудно и жутко. Потом появилась сыпь, да столько, что кожа стала пестрой, как ситец в красную точку, но мало-помалу все пришло в норму.