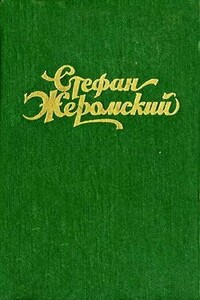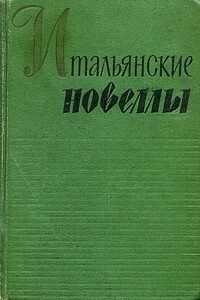В сетях злосчастья | страница 7
Взгляд его от голода и безнадежности сделался каким‑то полубезумным, даже вовсе бессмысленным, лицо стало землистым, одежда болталась на нем, как на вешалке. На грязном теле, потном от постоянного нервного возбуждения, последняя рубашка истлела и издавала отвратительный запах. Когда он продал все до последней нитки, единственным средством к существованию осталось в буквальном смысле слова выпрашивать взаймы. Подыскивать источники этого «кредита» ему помогал студент — медик, его товарищ по гимназии и сожитель по комнате. Вскоре, однако, он уехал на лето репетитором. После него разъехались и другие молодые люди, знавшие Якуба. И вот в случае жестокой необходимости ему приходилось теперь обращаться к малознакомым людям. Иногда он почти терял сознание от стыда, встречая на улице едва знакомого человека, к которому надо было подойти, завести разговор о вещах, совершенно посторонних, абсолютно безразличных, и закончить его небрежным вопросом.
— Не можете ли вы дать мне взаймы на некоторое время двадцать копеек?
Иногда он одерживал над собой невероятную победу: не приставал к людям, которые наверное дали бы ему взаймы и двадцать пять копеек. За комнату он не платил уже три месяца, но выехать из нее не мог, хотя она была для него чрезмерно дорога: куда же ему было податься, да и как это сделать? В течение нескольких последних недель он совершенно не ел горячей пищи, не пил даже противного напитка, называемого чаем, так как не на что было купить керосина. Он съедал только хлебец за двенадцать грошей, если, конечно, ему удавалось достать у кого‑нибудь денег. А сколько раз ему приходилось обегать чуть ли не полгорода, чтобы раздобыть эти двенадцать грошей! И сколько раз нехватка двух грошей разбивала все его мечты о покупке хлеба, об огромных кусках его, которые он проглотил бы с такой жадностью.
Обычно он сидел в Лазенках на одной и той же скамейке в самом отдаленном уголке парка. Иногда по этой пустынной аллее прогуливались солдаты с проститутками, но вообще там было тихо и уединенно. Якуб вытягивался во весь рост на скамейке, проглатывал своц.
хлебец, плакал целыми часами, если был в лирическом настроении, или впадал в состояние цинического равнодушия. Приспособиться к тяжелой действительности, где он нередко блуждал ощупью, подвергаясь моральным потрясениям и ударам, мешали прочно засевшие в нем беспомощность и даже боязнь впасть в грех. Он дышал, как после трахеотомии, искусственно введенным воздухом. Часто вскакивал вдруг со скамейки и широкими шагами направлялся… воровать. Дойдя до конца аллеи, он возвращался — не потому, что в его измученном существе просыпалась совесть, а потому что это противоречило его понятиям о чиновничьей добропорядочности. Иногда он срывался с места, чтобы идти работать. Колоть дрова, чистить канавы, убирать нечистоты, развозить уголь!.. Но он возвращался на свою скамейку еще быстрее, ибо твердо знал, что не в состоянии приняться за такую работу. Знал он и то, что его на такую работу не примут. Его учили ut consecutivum’y