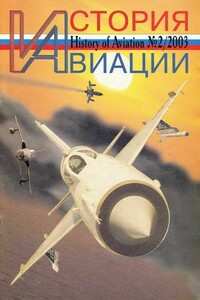История авиации 2003 04 | страница 46
Я не смог удержаться и спросил, не было ли у них в училище той проблемы, которую теперь называют «дедовщиной». «Нет, не было. На первом году службы "старослужащие" частенько над нами, "не нюхавшими портянок", подшучивали, иногда и довольно зло (пользовались нашей неопытностью), но уровень шутки от человека зависел. В основной своей массе курсантский коллектив был спаян и дружен. К концу первого года службы все стали ровней, шуточки прекратились».
Известие о том, что курс обучения сократили с трёх лет до двух было воспринято курсантами (и Тимофеем Пунёвым в том числе) даже с энтузиазмом — меньше времени до заветных «кубарей», меньше времени придётся париться в надоевшей казарме. Дело даже дошло до того, что одного из курсантов, командира классного отделения, бывшего стрелка с бомбардировщика, летавшего в Финскую войну и отбывавшего в Москву за наградой, специально «попросили, чтоб он нам "кубики" привез. Он орден получил и "кубари" нам привез, каждому по четыре. Это к выпуску, который должен быть аж через два года!»
А потом пошли всякие слухи, один хуже другого, но сводившиеся к тому, что командирских званий у выпускников не будет. Декабрьский выпуск выпустили младшими лейтенантами: «Мы как собачата ходили за ними и дразнили: "Младшаки, младшаки!" Глупые мы тогда были. Вот перед ними лейтенантов выпустили, их младшими, а что с нами будет, не задумывались, а в январе пришёл приказ выпускать всех сержантами — так тех злополучных младших лейтенантов, кто не успел получить назначение, тут же "разжаловали" в сержанты».
Несмотря на такой откровенно «оскорбительный и глупый» приказ, учеба продолжалась своим чередом. Я попросил Тимофея Пантелеевича рассказать, как он оценивает училище вообще, уровень боевой подготовки, и заодно спросил, не было ли во время его учёбы в училище случаев «репрессий», т. е. осуждения преподавателей и курсантов по обвинению «в антисоветской деятельности». По его словам, училище было самым обычным, не «элитным», не лучше и не хуже любого другого. Преподаватели и инструкторы были разные, были откровенные солдафоны, а были и настоящие таланты. В училище курсанты летали на четырёх типах самолётов: У-2, P-Z, СБ и ТБ-3. На У-2 — первоначальное лётное обучение, на P-Z и СБ отрабатывали боевое применение, бомбили в основном с P-Z, а стреляли по конусу и по наземным целям — с СБ.
«На ТБ-3 летали на групповые упражнения, которые вскоре отменили, посчитав слишком опасными, и на тяжелом бомбовозе летали в дальнейшем лишь "на связь", поскольку лишь на ТБ-3 была радиостанция РСБ. Теоретически считалось, что мы, совершая полет, должны были получать с земли и передавать на землю по радиосвязи различный текст, а после посадки сравнить полученные наземными радистами данные с переданными нами. Вроде всё совпадало, зачеты сдавали. Но это была туфта, за все время я ни разу "землю" не слышал и не верил, что меня кто-нибудь слышит. Основной вид связи между "землей" и самолетом была выкладка полотнищ Попхэма (был такой английский маршал). Берется полотнище, из него выкладывается "Т", а на полотне имеются специальные клапана, которые загибаются и, укорачивая части "Т", позволяют передавать определенную информацию. Самый простой пример: если не выпустилась у тебя левая "нога", то на полотнище загибают левую половину "Т". А если на самолет надо было что-либо более сложное передать, то (помню рисунок из книги), устанавливали две мачты, а между ними на тросе висел пакет. Р-5, пролетая низко над землей, цеплял пакет крюком. Вот такая была связь. Радиосвязь у нас была в эмбриональном состоянии. Пещерные мы люди были, в смысле радиосвязи. Не помню, чтоб ата рация на ТБ-3 хоть у кого-то нормально работала».