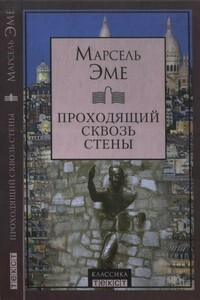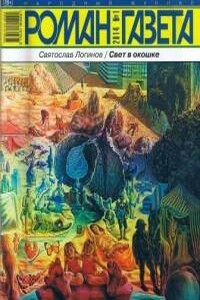Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 145
Он долго рассказывал ей, как дрался с белыми на Кубани, как помогал зеленым доставать оружие и для этого недавно разыграл в Судаке офицера связи, как увлекательна и прекрасна вся эта возня в подполье, между смертью и победой, когда завтра могут быть виселица у ворот городской тюрьмы или цокот красной конницы, прорвавшей наконец перекопские плотины.
«Красные», «белые», «зеленые» — Жанна слышала эти слова. Правду сказать, — она все больше предавалась Андрею. «Готовить восстание» — это должно быть хорошо, это как теплый ветер, в одну ночь переделавший ужасный город. Ведь Феодосия же чудесная: беленькие домики, аркады, море! Странно, что она раньше этого не заметила… Революция это не одни обыски и карточки. Это, очевидно, еще многое другое. Это — Андрей, который готов за нее умереть. А за сахар ведь не умирают. Значит, это сродни тому, о чем она учила в школе, значит, это как у Гюго. «Готов умереть». Но не нужно, чтобы он умер! Он должен жить! Она его увидит еще?
Вечерело. Внизу закопошились огоньки. Кто-то, терзая гармошку, наполнял все небо бабским истошным нытьем. Прорвалось несколько выстрелов…
— Может быть, разведка… расстреливают…
Его тоже могут расстрелять! Как зерно факира, Жанна с каждой минутой росла. Впервые тревога женщины прошла в ее детское сердце.
— Вот, я радуюсь, что мы встретились, а увидимся ли еще, не знаю…
И здесь произошло второе событие этого сумасшедшего дня, столь же неожиданное и таинственное, как наставшая среди зимы весна: сама не понимая, что она говорит, откуда у нее такие слова, Жанна ответила:
— Мне кажется, что я не могу без вас, Андрей…
Сказала и испугалась. А он все улыбался, только, казалось, еще грустнее серели его глаза. Просыпалось еще несколько выстрелов. Андрей невольно, нехотя прислушался. Ночью он должен был пробраться в Отузы. Жанне он ничего не ответил. Оба молчали.
Огоньки придвинулись, стаей бросились в глаза. Это была уже окраина города.
— Дальше мне нельзя, — сказал Андрей.
Сказал и, удержав ее руку, с той отчаянной нежностью, которую дает человеку лишь предчувствие большой, может быть, непоправимой разлуки, поцеловал смугленькую ладонь.
По людной Итальянской Жанна быстро шла домой. Чувствовала: нужно думать, нужно осознать, что с ней случилось, но все оттягивала эту минуту. Вдруг, возле шумной кофейной, где толкались, промышляя фунты или лиры, кругленькие спекулянты, а меж их слипшимися животиками сновали мальчишки с папиросами и рахат-лукумом, в самой сутолоке Жанна остановилась. Ее никто не окликнул. Она могла бы идти дальше. Она остановилась от короткой, от самой простой мысли, пришедшей сразу, вместо сложного и длительного процесса обдумывания, который ей представлялся: ведь это же любовь! Папиросники продолжали верещать. Какой-то грек внимательно поглядел на Жанну, что-то сказал ей. Жанна не слыхала. Она стояла и улыбалась.