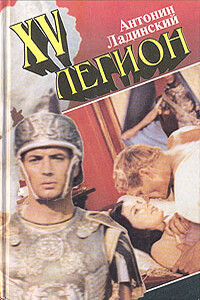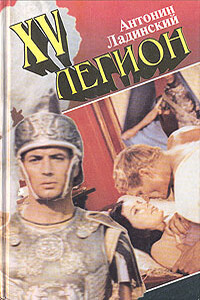Горький мед | страница 30
Я еще лежал на своей железной прогнутой кровати запечной и прислушивался к затихающим шагам отца.
— А ты чего лежишь? — вдруг набросилась на меня мать. — А ну-ка вставай! Лодырь!
Я вскочил, точно ошпаренный. Никогда еще она не обзывала меня так.
Мать стала шлепать завозившихся в постели сестер. Самая маленькая, трехлетняя Настюша, зарылась в рваное ватное одеяло, притаилась, как сурок, а Лена и Дуня заревели во весь голос. Я вступился за них, но мать страшно, до неузнаваемости, исказив лицо и выпучив глаза, принялась хлестать меня тряпкой по лицу, по спине, по чем попало. Это меня-то, уже взрослого парня!
Я взбеленился не от боли, а от обиды и унижения, грубо вырвал из рук матери тряпку, швырнул в угол.
— Навязались вы, окаянные, на мою голову! — запричитала мать. — Зима идет — чем я вас кормить буду!..
Не помня себя, я кричал ей, что она злая и сживает всех нас, в том числе и отца, со свету. Это была неправда: мать жалела нас одинаково, она больше, чем отец, ухаживала за нами, изворачивалась, борясь с нуждой, кормила, поила и обшивала нас и все это на добытые всякими ухищрениями средства. Но я вопил, как одержимый, что убегу из дому в степь, в город, куда глаза глядят.
— Видимо, вспомнив мелодраматические сцены из прочитанных романов, я выкрикивал противно визгливым (сам это чувствовал) голосом явно заимствованные из книг чужие слова:
— Как ты смеешь называть меня лодырем?.. Я не ем твоего хлеба! Я сам заработаю себе, вот увидишь! Я к Рыбиным пойду в машинисты… В ремонт… на станцию…
Задохнувшись от негодования, я выбежал из нашей кухоньки во двор.
Уже развиднелось, сеял унылый ноябрьский дождь. Я был без шапки и тут только заметил, что второпях натянул дырявые сапоги на босу ноту и напялил ветхое пальтишко, в котором ходил еще в школу.
Дождь сразу остудил мою голову. Мне стало стыдно: и чего я так разошелся?
А тут мать, выбежав из кухни, крикнула мне вслед:
— Вернись! Шапку забыл! Простудишься!
Она сунула мне в руки шапку. Я смущенно и все еще хмуро взглянул на нее, а она смотрела на меня жалобно и виновато.
Обида еще бушевала в моей груди, но приступ гнева стихал. Я стоял посредине двора в нерешительности. Куда идти? Самого умного и опытного в житейских делах моего наставника — Ивана Каханова — не было: он учился в Новочеркасске. Рогов уехал с дедом в город плотничать. Афоня Шилкин, бахвал и задавака, ничего путного не мог посоветовать. У его отца тоже было не меньше ртов. Да и на кого и на что жаловаться? На нашу бедность? На то, что я, закончив училище, сижу на отцовской шее?