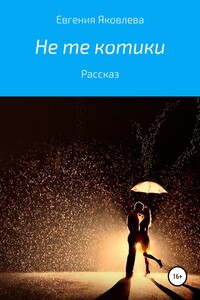Мытари и фарисеи | страница 63
— Ох, сынок, сынок, сначала орден, а потом совесть.
— Мать, о чем ты говоришь, как могла подумать, просто так прижало.
— Вот и подумала, ты уж прости. Чистая совесть для души — это, это. — она взглянула в красный угол, — это как икона для хаты. С чистою совестью жить покойно и радостно, меньше всякие болячки нападают. Вот, сберегла, — она положила планшет на стол, погладила его дрожащей рукой, открыла и достала отцовские ордена, медали. — Помню, в военкомате один такой хитрый начальник насел, награды надо сдать, а я ему: какие награды, они с Никитою уже в могиле. Бывало, придем после праздника Победы домой, я стол накрою, мужики соберутся, и давай каждый свое вспоминать, где и в каком бою больше всего лиха хватил, а ты вон там, в уголке сидишь, слушаешь. Рыгорка, так о том, как ногу ему оторвало, а отец, как он под Ленинградом в танке горел. У него и шрам на всю спину остался. Скажи, сыночек, а тебе они легче достались?
Мне было нечего сказать.
— Ну, матери промолчать можно, она не обидится, да помни, все село на нас пальцем тыкать будет, и после смерти мне не забудут. Здесь все за одно цепляется. Возьми того же Цыганчука. Когда-то человеком был, а сейчас кто он? Спроси у людей, они тебе скажут. Но Цыганчуку простят, с него взятки гладки. Люди знают, как и за что ему тот орден на грудь вешал, а нам не простят.
Она медленно, словно нехотя, как будто разлучалась с чем-то невыразимо близким, спрятала отцовские награды опять в планшет и положила в шкаф на старое место.
— Вот и все его наследство — и для тебя, и для внуков. Моя совесть также чистой перед вами будет. А Рымашевскому скажи, пусть над людскими душами не воронячит.
— А ты откуда взяла, что он?
— Больше некому. Люди завидуют ему, мол, живет человек, и меня иногда такая мысль тоже пробирала, а как подумаю, сплошное «купи-продай». Это как мыльный пузырь, сегодня вздулся, а завтра лопнул. Ничего, сынок, даст Бог, выкрутимся и без его помощи.
Всю ночь перед иконой Божией Матери в ее комнатке горели свечи. Оттуда слышалась молитва. Я уснул, а она, стоя на коленях, все молилась и молилась. Спала ли она, я не знаю, но утром с просветленным лицом вошла в большую комнату и сказала:
— Сынок, давай-ка мы с тобой обсудим все по порядку. Садись и слушай меня, только не перебивай. Так вот, живу я одна, корову мне теперь держать очень тяжело. Одного сена достать чего только стоит, а за выпас уплатить, а навоз вывезти. Я ведь ее держала только ради вас. Думала, как переберетесь, так все на потребу будет, очень хорошая корова. Купить ее мне еще Степан Сытин посоветовал. Говорит, бери, Маруся, не пожалеешь. Тогда отец болел, и ему молоко надо было. Конечно, жалко с такой коровой расставаться, так ведь надо. Думаю, за нее хорошие деньги дадут.