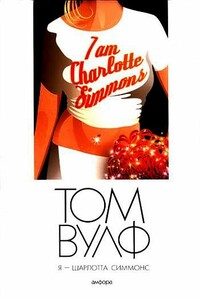Осажденный город | страница 26
Маленькая собака бежала по мостовой на слабых лапах, рысцой, махая хвостиком на свету. Персей неуклюже отогнал ее — безбородое лицо улыбалось от стыда и восторга перед собственной трусостью.
Большой, кроткий. Мог бы отрастить длинные волосы. Завивались бы; умел сочинять стихи и был католиком.
— Такой огромный и щенка испугался, — сказала она грубо, с любопытством его рассматривая, а шарманка на углу завела серенаду Тозелли, согревая улицу. Музыкант вертел ручку, а инструмент калечил музыку с трудом и осторожно — музыка принимала беглые формы разных предметов… или все, что попадет в этот город, реализуется в вещь?..
Тут девушка остановилась и поставила сумку на землю. Персей из мести притворился, что прекрасно знает, что у нее в сумке масса ненужных вещей, увядших цветов с бала, бумажек; попытался, пользуясь своим опытом, показать, что видит, хоть не мог бы и догадаться.
Но когда Лукресия выпрямилась, подняв голову, свет вспыхнул в ее волосах… что-то изменилось, приоткрыв ее хорошую сторону; ее глаза, на мгновенье грустные, излучали тот же рассеянный свет, что и волосы, и словно перестали видеть, чтоб увидели их: Персей попытался увидеть, хоть на миг. А из накрашенных губ девушки рождалось светлое дуновенье, то, что она создала в себе, ускользало сейчас от нее — она была так красива… словно не нарочито вымыта, ногти и шея будто в тени, вся вытянулась на ветру — так красива, подумал он в отчаянии, так красива… ровно слепая…
— До чего ж ты мне нравишься! — сказал юноша, упрямо нагнув голову, как бодливый бык.
Она обернулась, сказала жестко и весело:
— Ты знаешь, что мне не нравятся такие разговоры! — и кокетливо надулась.
Персей взглянул на нее, стыдливо смеясь, и она тоже засмеялась. И столько смеялись, что поперхнулись, нечаянно или нарочно, и стали кашлять. Лукресия Невес стихла, вытирая глаза, вся красная, потеряв весь свой вид: это-то он хорошо заметил… О, любить ее означало постоянное усилие — он стоял, серьезный, омытый бледнеющим солнцем, изучая растерянно даль. Глаза его были широко открыты. Зрачки темны и золотисты. И было одиночество навсегда в этом неподвижном стоянии. Тогда она заговорила.
— Пойдем отсюда, — произнесла она мягко, потому еще, что уже начинала обманывать его.
В парадной дома, где жила девушка, он сказал, что подождет, пока она подымется.
«Нет, — отвечала она, так доверительно хитря, — это я подожду, пока ты не уйдешь, понял…» — она говорила очень нежно, махая всем своим существом одновременно со шляпой, но смотрела ему в глаза с тревогой: не хотелось доставлять себе труд подыматься по лестнице, чтоб снова спуститься.