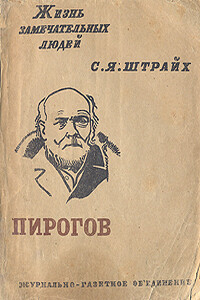Рублев | страница 45
И не могут, не должны быть святые, думает Андрей, столь земными и немудреными.
Ведь им открыты истины и тайны бога, они знают, к чему вести людей, а у новгородцев апостолы и отцы церкви смахивают на рыбарей и пахарей, каких встретишь на каждом шагу.
Истина же на земле не валяется, понять жизнь и возвыситься до подвига может — увы! — не всякий рыбарь и пахарь.
Простой люд невежествен, блуждает по миру с закрытыми очами и нуждается в поводырях.
Новгородцы правы только человечностью, но не правы воплощением ее.
Нет. Так писать нельзя.
Но как?
Как?
В это время судьба сталкивает Андрея Рублева с живописью Феофана Грека и с самим замечательным художником.
Это как вспышка молнии, как внезапный удар грома, способные смять, смутить, подчинить себе любую недюжинную натуру.
Это искусство, какого еще не было и какое невозможно было предполагать.
Феофан Грек оглушает.
Он столь необычен, что спор с ним кажется невозможным, а твой собственный дар, все сделанное тобою до сих пор — малым и ничтожным. И первые дни после знакомства с работами Феофана Андрей ходит разбитый, почти больной и не может прикоснуться к краскам.
Не меньше его смущен и Даниил.
Подобной смелости не знали ни тот, ни другой, хотя и слышали о Феофане много еще задолго до прибытия в Москву.
Воистину, одно — слушать рассказы, другое — узреть чудо самим.
Феофан же Грек — подлинное чудо.
Не зря Москва бредит им, и любой сбитенщик, последняя просвирня знают художника в лицо, а знатные люди почитают за счастье посмотреть, как пишет старый мастер.
Говорят, Феофана это не смущает, он умеет работать даже окруженный толпой и в это время разговаривает с людьми, шутит будто ни в чем не бывало.
И пишет, не заглядывая ни в какие старые прописи, а так, как самому подумалось и увиделось.
Уж это-то вне сомнений. Боги и подвижники Феофана ничем не похожи на богов и подвижников других иконописцев. Каждый лик — феофановский лик, и его не спутаешь с иными.
Нет! Не спутаешь!
Москва славит Феофана. Иконописцы старательно перерисовывают его дивные образы, надеясь усердным подражанием постичь тайну поражающего сердце искусства.
А Андрей Рублев не прикасается к краскам.
Еще и еще разглядывает работы Грека.
Молчит.
Мечется ночами по келье.
Даже с Даниилом разговаривает отрывисто.
Бросается к писанию, а от писания — к своим прежним работам.
Иногда потерянно сидит, уронив большие руки меж коленей и безучастно глядя в одну точку.
Но потом вскакивает и нетерпеливо собирается в новое хождение по храмам…