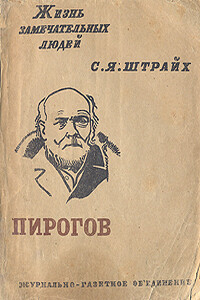Рублев | страница 44
— Купи! Купи!
Грохочет на бревенчатой мостовой расписной боярский возок. Щелкают бичи над запряженными гуськом конями.
— Э-ге-ге-ге!
Из оконца рука в широком бархатном рукаве сыплет милостыню. Нищие ползут на коленях, хватая рассыпанную подачку.
— Спаси тебя господи… Спаси тебя господи…
А за углом свалка. Кого-то бьют. На помощь человек не зовет. Видно, тать.
Тать помощи не ждет.
Синее небо. Легкая, но крепкая паутина. Дымящиеся посреди улиц свежие конские котяхи. Толчея, говор, шум, и вдруг над резными коньками теремов, над шумом и говором — бум! бум! бум!
Обрывая людей на полуслове, с великокняжеского двора несут густой звон недавно устроенные сербским мастером Лазарем часы — хитрейшая штука, знающая, когда полдень и полночь, размеряющая день на равные части и устрашающая неразумных…
Отбили часы, и снова кипит, живет Москва! Живет!
И Андрей чувствует: и давешний кузнец, и бондари, и величавая баба с ведрами, и та, другая, с полотном, и корявая мостовая, и Лазаревы часы, и терема, и это небо — все: отец и мать, родина, то, что дается человеку однажды и навсегда…
Люди оборачиваются вслед молодому чернецу, бредущему не разбирая дороги, будто ослепшему и блаженно улыбающемуся всем встречным.
Юродивый, что ли?
И на всякий случай крестятся.
А он ходит от терема к терему, от одной тесовой церквицы к другой и каждый раз открывает новые чудеса: там удивительной резьбы крыльцо с изображениями зверей и птиц, там невиданного письма икону, там заставляющую трепетать его сердце роспись стен.
Андрей ласково усмехается наивным, ярко и аляповато раскрашенным зверюшкам на крылечках домов.
Скорбно поднимает брови перед ликом богоматери, чьи печальные глаза и распахнутые руки говорят о готовности отдать сына человеческому роду во искупление вечных грехов.
Долго стоит в Архангельском соборе, переводя взор с икон греческого письма на иконы русских мастеров.
Щурится. Покусывает губу.
Византийцы рисуют лучше, и краски у них согласней. Но наши — мягче, добрей, хотя и не выучились находить для своей доброты нужных сочетаний линий и цветов.
И вдобавок у тех и других нету чего-то единого, цельного, что ищет он сам.
У кого же учиться?
Среди суровых, аскетических ликов, нарисованных выходцами из Византии, яркими искрами сверкают иконы русского северного письма.
Говорят, их делали новгородцы.
Святые и подвижники новгородцев ближе сердцу Андрея. В них есть человечность, они глядят на людей добрыми, участливыми глазами и сами просты. Но порой чересчур просты и опять написаны менее искусно, чем греческие.