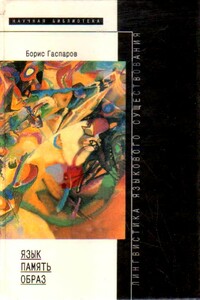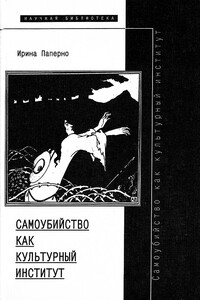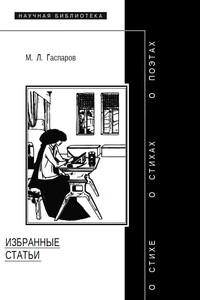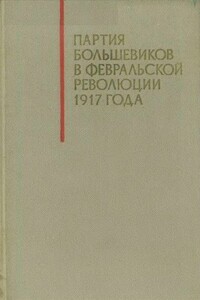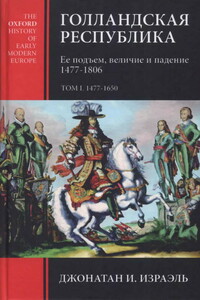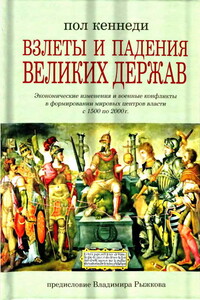Поэзия и поэтика города | страница 77
В «Виленском имброглио» (1936), кажется, взаимно перетекают, взаимозаменяются объект и субъект текста; короткие диалоги, реплики, словно в уличной толпе, вообще говор улицы:
(388)
В обстановке неопределенности-непонятности (к слову упоминается и психиатр), вне времени возможна встреча с тенью:
(389)
А известие об отъезде «пана Мицкевича» в Россию приводит к логическому выводу: «значит, тоже коммунист!», которым и завершается стихотворение. Имброглио здесь, конечно, выступает в обоих своих значениях: и литературной усложненности, и как понятие путаницы, бестолковости, перенесенное на город.
Двойственность, постоянное балансирование — черта поэтики всего виленского цикла Галчиньского. Не составляют в этом отношении исключения и несколько фельетонов (фактически эссе или небольших рассказов), которые он публиковал в местной прессе, — например, «Виленская сердечность». Вот начало:
«В далеком, волшебном Вильно — люди сердечны. Что ни миг, слышно: — Миленький мой, голубчик, любовь моя, приходи чайком побаловаться! С пирогами.
Народ говорит на польском с русскими, на русском с поляками, но сколько ни слушай, сам черт не поймет, о чем они талдычат.
Во тьме души сгубили. Бормочут. Сердечность зато неслыханная. Конечно, за сердечность надо платить сердечностью. Плохо только, если у тебя, например, квартира с ванной.
Обладатель квартиры с ванной может рассчитывать на широкую популярность во всем городе. Ванна в далеком, волшебном Вильно принадлежит к вещам редким»[206].
А дальше — как в рассказах Зощенко — идут нескончаемой вереницей желающие помыться, от «приятельницы нашей знакомой» до незнакомой старушки с больным песиком. В своей обычной иронично-юмористической манере Галчиньский рисует черты быта и психологии виленчан, распространяя и на эти сферы ту «чертовщинку», о которой уже говорилось.
В «Виленской осени» «романтический город»[207] представлен одновременно и резко иронично, и с особенным, присущим поэту лиризмом. Об этом фельетоне уже говорилось. Постоянные переходы, переливы красок, ощущение того, что смешное в любой момент чревато трагичным, а едкая ирония оборачивается тонкой лирикой, — все это, по-видимому, и отражало самоощущение поэта (и, вероятно, не его одного) в современности предвоенных лет.