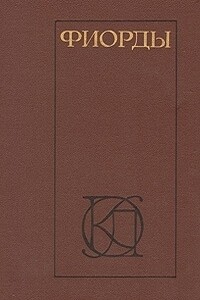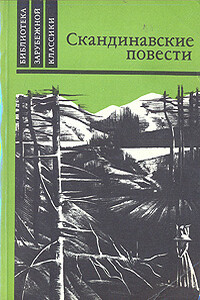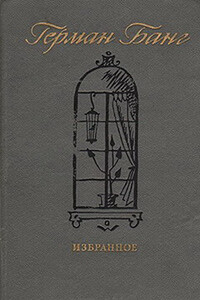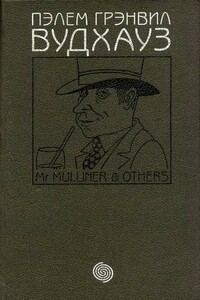Четыре черта | страница 16
И он снова начинал хохотать, а она не понимала, почему он хохочет. Под конец она спросила:
— Почему ты смеешься?
— Да так,— отвечал он, не переставая смеяться.—* Потому что все это так странно, так странно...
Он был счастлив и в то же время смущен тем, что попал в этот дом.
Тем, что он здесь — хозяин.
Он и впрямь чувствовал себя здесь хозяином: ведь она принадлежала ему. Он обладал ею. В его неотесанном мозгу крепко засела убежденность в неограниченной власти мужчины, власти над женщиной, оплодотворяемой им, мужчины, являющего собой деятельное, творческое начало, мужчины, который — прогневайся он в самый миг иссушающего наслаждения — мог бы раздавить ее своими могучими чреслами.
Но у Фрица, мнившего себя укротителем и судьей, неограниченным, полновластным хозяином женщины, все эти извечные мужские представления рассеивались и меркли перед немым, неослабевающим восхищением, которое ему внушала она сама, каждое ее слово, звучавшее как-то особенно, каждый ее жест, каких ему не случалось видеть; ее тело, каждая его частичка, изумлявшие его своей непривычной, чужеродной красотой, нерасцветшей и хрупкой...
И он смягчался и робел и снова приоткрывал глаза, дабы убедиться, что это не сон, и тихо ласкал ее тонкие, изящные пальцы: да, все — правда.
А она гладила его по волосам все медленнее и медленнее, и дыхание его участилось, хотя, казалось, он дремлет.
Он вдруг поднял на нее глаза.
— Зачем я вам? — спросил он.
— Глупый ты,— прошептала она, прильнув губами к его щеке,— глупый, глупый.
Она продолжала шептать у самого его уха, и голос ее распалял его еще больше, чем ласки:
— Глупый ты, глупый...
И, словно стремясь убаюкать его прекрасное, недвижимое тело, она все шептала, шептала:
— Глупый ты, глупый...
По-прежнему улыбаясь, он приподнялся, сел рядом с ней, привлек ее к себе и, любуясь ею, спросил с невыразимой нежностью:
— Могла бы ты уснуть вот так? — и начал баюкать ее на руках, как ребенка.
Оба рассмеялись, не отводя глаз друг от друга.
— Глупый ты, глупый...
Глаза его вдруг вспыхнули, и, сжав ее в объятиях, он стремительно и молча пронес ее на руках через всю комнату — в спальню.
Только синий огонек ночника глядел на них сонным оком.
Когда им пришло время расстаться, уже светало. Но во всех углах: на ступенях лестницы, в саду перед уснувшим домом с занавешенными окнами, таким респектабельным и строгим, они, задыхаясь от страсти, длили часы свидания, и она все шептала и шептала те три слова, ставшие как бы припевом их любовной песни, рожденной одним лишь влечением.