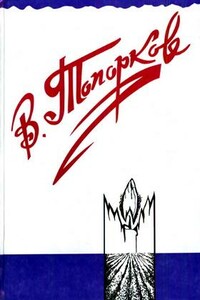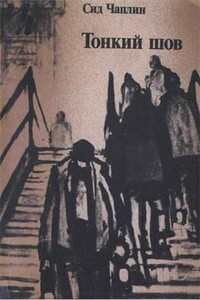Тётя Фрося | страница 16
Фрося представила, как оголодит она семью, и тягостно вздохнула – нет, такого и представить нельзя, и, когда выписалась из больницы, даже не обмолвилась словом матери о рекомендации врачихи. Слишком дорогое удовольствие – мёд, чего зря языком молоть…
А через месяц новое испытание подстерегло семью Фроси. Под вечер, уже по сентябрьской мокряди, подкатила к дому машина, маленькая легковушка, крытая тентом. Шофёр, пожилой мужик в военной форме – армейский ремень поделил начальственный животик на две пышные доли – и девушка, светловолосая, лёгкая, как пушинка, подскочили к заднему сиденью и, как мешок, вытащили на землю что-то непонятное.
Фрося выглянула в окно, и жалость так сдавила грудь, что, кажется, сейчас разорвётся сердце. Она закрыла глаза от ужаса. Из машины вытащили её брата Алексея, точнее то, что от него осталось. Был Алексей великаном, весёлым парнем, быстрым лыжником (городок районный за двадцать пять километров, а он туда и обратно управлялся за четыре часа на лыжах), а сейчас из машины выволокли… обрубок. Первое, что бросилось в глаза Фросе, – грубые кожаные опорки, закреплённые блестящими застёжками на бёдрах, и она поняла всё: нет больше ног у брата, укоротила его война.
Она кинулась с рыданиями в тёмные сени, выскочила на улицу, упала в грязь на колени, прижалась к брату. За ней выбежала Алла, потом мать, и протяжный крик поднял, кажется, всю деревню на ноги. Даже девушка, сопровождавшая Алёшку, не выдержала, захлюпала носом, привалившись к плетёной ограде.
Ничего в жизни не проходит бесследно, даже круги на воде оставляют след. Горе в семье Фроси связало всех в тугой узел – живи и помни! Их военные беды, переживания теперь казались такими мизерными, жалкими по сравнению с этой бедой. Мать свалилась от сердца в постель на другой день, у Фроси что-то тяжким кляпом застряло в груди – не продохнёшь. Даже Алла, хохотушка Алла, ходила, как обречённая, низко опустив голову.
Хорошо, что ещё Алёшка не падал духом, как мог, подбадривал самых близких людей. В первый день, осушив за столом стакан водки (видимо, припас для встречи с домом заветную бутылку), он, слегка захмелевший, говорил тихо, рассудительно, обращаясь к Фросе:
– Ты, сеструха, не сокрушайся над моей бедой. Глаза видят, уши слышат, руки целы. А ноги? Что ж ноги! Значит, не судьба. Буду к новой жизни приспосабливаться. Корзинки буду плесть. Я по-всякому рассуждал: хотел и пулю себе в висок замастырить, чем уродом жить, только вас стало жалко. Погиб бы – ещё страшнее для вас стало.