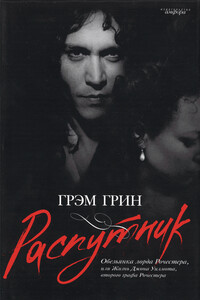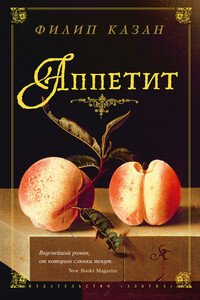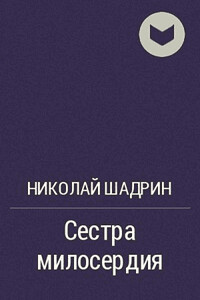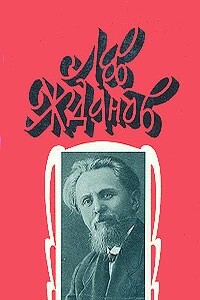Повесть об отроке Зуеве | страница 41
— Альбом хорошо исполнен, господин школяр! — Паллас шевелит пальцами, и этот жест говорит: в работе, представленной ему, есть нечто особенно приятное.
Школяр Зуев. Так, так.
Протасов приподнимается с кресла:
— Петр Семенович, вот сего школяра рекомендуем в путешественную команду.
— Как звать?
— Василий Федоров Зуев.
— А лет?
— Без малого четырнадцать.
— Молод, что и говорить, Петр Семенович, — вступается за Васю профессор Протасов. — Пригодится в дальнем пути, поверь. В ботанике, в географии не по годам осведомлен. И стиль, стиль есть…
Палласу вспоминается, как русские называют ромашку — пуповка, воловьи очи, сосонька. Ему хочется назвать стоящего перед ним мальчугана «пуповкой»…
Неужели год прошел, как он в Санкт-Петербурге?
На календаре — июнь, год 1768.
Что ж, время зря не потрачено.
«Грамматик» Мокеев доволен его российским слогом.
Паллас знакомился с картами, сибирскими отчетами-донесениями служивых людей с мест предстоящего путешествия.
Еще Ломоносов, в бытность свою директором Географического департамента, немало размышлял о сибирской экспедиции. Землепроходцам, писал он, не поставлен предел проницательности, многое должна открыть смелость и благородная непоколебимость сердца путешественника. Палласа поразили эти простые и гордые слова.
Сердце путешественника — не это ли главное?
Как был обстоятелен, прозорлив сей ученый муж. Каменный пояс Урала заслонил от взора натуралистов то, что находится к востоку. Ломоносов составил «перечень предметов, до которых изыскания и наблюдения должны касаться испытатели натуры»: изучать реки, озера, моря, состав воды, открывать полезные в медицине травы, звериные промыслы, нравы и обряды местных племен, вносить поправки в атлас.
Сибирь, Сибирь, Сибирь… Она необъятна, нема, таинственна. Еще совсем недавно историк Миллер замечал: «О древнейших приключениях этой великой части Азии основательного и обстоятельного сказать нельзя».
Господин историк заметить изволили верно! Вот и пришла пора начать обучение этой части Азии языкам географии, зоологии, ботаники. Кто же эту немоту преодолеет, как не наука?
«Младенческая страна», — говорили ему в Берлине. А Ломоносов как заявил о себе белому свету? И сколько людей идут за ним, обуреваемых страстью к познанию? Протасов, Румовский, Котельников — как они исполнены желания оказать чрезвычайную услугу отечеству, затянутому едва ли не за ближайшим поворотом мраком неизвестности, с потаенными недрами, малоизвестными народами.